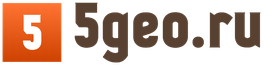Алексей Фёдорович ЛОСЕВ в 1915 году окончил историко-филологический факультет Московского университета по двум отделениям — философии и классической филологии. Сблизился со многими религиозными философами. Был собеседником Николая Бердяева и учеником Павла Флоренского.
Резкий перелом в его жизни вызвало написание книги «Диалектика мифа» (1930), где он открыто отвергал марксизм («Марксизм, — есть типичнейший иудаизм, переработанный возрожденческими методами, и то, что все основатели и главная масса продолжателей марксизма есть евреи, может только подтвердить это») и официальную философию — диалектический материализм. Он был подвергнут травле, арестован в апреле 1930 года и приговорён к 10 годам лишения свободы. Отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийского канала, почти полностью потерял зрение, лишь частично восстановив с годами возможность видеть. Благодаря ходатайству первой жены А. М. Горького Е. П. Пешковой в 1932 году он, как и его жена, приговорённая к 5 годам, были освобождены.
Поскольку философию ему преподавать не разрешалось, он занимал должность профессора Нижегородского университета и Московской консерватории (1922). После однолетнего пребывания на Белбалтлаге с трудом получил разрешение на преподавание античной эстетики во 2-м МГУ, Государственной академии художественных наук, Московском государственном педагогическом институте (1944); научный сотрудник Государственного института музыкальной науки (1922), работая в котором, А. Ф. Лосев внёс большой вклад в развитие философии музыки.
По конфиденциальным сведениям, поступившим в ЦК ВКП(б) из Краснопресненского райкома партии, Лосев однажды заявил на философском факультете, в присутствии коллег: «Да, я идеалист».
В 1929 году вместе с женой Валентиной Михайловной Лосевой тайно постригся в монахи от афонских старцев. Супруги Лосевы приняли монашеские имена Андроник и Афанасия. Тайное монашество стало практиковаться во время гонений на Церковь в ХХ веке. Из монашеского облачения носил только скуфью — шапочку на голове.
Лосев стал сторонником (вслед за Флоренским) так называемого имяславия: «Бог не есть имя, но Имя — Бог». Под видом изучения античной эстетики, слова и символа всячески проповедовал философию Имени как изначальной сущности мира.
Светлов рассказал о том, как профессор Лосев, недавно уволенный из университета, назвал работу Сталина «О диалектическом и историческом материализме» наивной, а потом объяснял, будто имел в виду её гениальную, почти античную простоту, и ещё много чего.
После смерти Сталина у Лосева опять появилась возможность публиковать работы. В его библиографии более 800 произведений, более 40 из них монографии.
В 1960-х годах вышел первый том «Истории античной эстетики», изменивший традиционные представления об античности. Лосев сделал для античности то, что Д. С. Лихачёв сделал для древнерусской культуры. Год за годом и том за томом выходили новые книги по античной эстетике, открывая тонкости античного идеализма от Сократа, Платона и Аристотеля до мистической апофатики Плотина и неоплатоников. Лосев писал также монографии об эллинистическо-римской эстетике (1979) и эстетике Возрождения (1978).
Постепенно у Лосева появился круг учеников и последователей среди интеллектуалов более молодого поколения. Среди них — С. С. Аверинцев, В. В. Асмус, В. В. Бибихин, П. П. Гайденко, Г. Ч. Гусейнов, С. Б. Джимбинов, К. А. Кедров, В. А. Косаковский, А. В. Михайлов, Ю. Н. Холопов, С. С. Хоружий, В. П. Шестаков и другие известные ученые, философы, деятели искусства. Среди исследователей более старшего поколения с Лосевым во второй половине XX века были близки В. Ф. Асмус, А. В. Гулыга, Б. И. Пуришев, А. Г. Спиркин и др.
В 1983 году вышла популярная книга «Вл. Соловьёв». Тираж книги сначала был полностью арестован, но потом под давлением общественности всё же распродан в дальних уголках страны. Власти вели двойную игру, одновременно запрещая работы и награждая всемирно известного учёного.
В 1980-х годах тяжело больной Лосев уже открыто говорил ученикам и последователям о своей вере, проповедуя имяславие.
А. Ф. Лосев был практически слепым и различал только свет и тьму. Наряду с другими учёными он является примером того, как при глубоких нарушениях зрения можно достичь выдающихся результатов в науке. В память об этом в Российской государственной библиотеке для слепых установлен бюст А. Ф. Лосева.
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА
Вл. Соловьев — это крупнейшая фигура русской философии, публицистики и поэзии второй половины XIX в. Он еще очень мало изучен в нашей науке, а его изучение представляет огромные трудности ввиду чрезвычайной сложности и многогранности его творческой натуры. Первое и основное, что бросается в глаза при изучении Вл. Соловьева,— большое духовное беспокойство, заставляющее его болезненно чувствовать шаткость и обреченность старого мира. Он предчувствовал наступление мировых событий катастрофического характера; и это предчувствие было у него настолько глубоко и не выразимо обычным прозаическим языком, что он в конце концов заговорил в пророческих тонах и стал изображать наступление конца истории в духе чистейшей мифологии. Поэтому, хотя Вл. Соловьев и является для нас в первую очередь предметом академического изучения, тем не менее его жизнь и творчество волнуют современного читатели уже далеко нс просто в академическом смысле, но и в смысле переживания конца одних исторических периодов и наступления новых, еще небывалых времен.
Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве 16 января 1853 г., в семье крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820—1879). Обстановка ранних лет Вл. Соловьева сложилась весьма благоприятно для его последующего духовного развития. Отец Вл. Соловьева отличался строгостью нрава, необычайной систематичностью в своих исторических занятиях, в силу чего он почти каждый год издавал по одному тому своей "Истории России с древнейших времен» (1851 -1879), и таких томов он издал двадцать девять. В его семье все было подчинено строгим правилам, которые и обеспечивали для С. М, Соловьева его необычайную научную продуктивность в течение всей жизни. Его «История России» современными историками расценивается весьма высоко. В молодости он слушал Ф. Гизо и Ж. Мишле, исторический процесс понимал весьма органически, сделал большой вклад в историю развития русской государственности, был настроен прогрессивно и либерально, имел среди своих учеников таких, как В. О. Ключевский. Небезразлично также и то обстоятельство, что мать Вл. Соловьева, Поликсена Владимировна, происходя из украинско-польского рода, имела своим предком замечательного мыслителя XVIII в. Григория Саввича Сковороду (1722—1794).
Средние образование Вл. Соловьев получил в московской 5-й гимназии, в которую поступил в 1864 г., а высшее образование — в Московском университете, в который поступил в 1869 г. и окончил в 1873 г. Необычайно одаренная натура Вл. Соловьева и его постоянные и, можно сказать, страстные поиски высших истин сказались уже в ранние годы его жизни. Всем известно, что Вл. Соловьев очень рано начал читать славянофилов и крупнейших немецких идеалистов. Однако мало кто знает, что в последние годы гимназии и в первые годы университета Вл. Соловьев зачитывался тогдашними вульгарными материалистами и даже пережил весьма острую материалистическую направленность, заставившую его перестать ходить в церковь, а однажды даже и выкинуть иконы из окна своей комнаты, что вызвало необычайный гнев у его постоянно добродушного отца. Хотя, вообще говоря, С. М. Соловьев был настроен достаточно либерально, чтобы насильственно внедрять религию в своих детей. К чтению Вл. Соловьевым тогдашней вольнодумной литературы он относился вполне спокойно, считая это болезнью роста своего сына. Что же касается значительного либерализма в семье С. М. Соловьева, то об этом достаточно говорит, например, такой факт, как возмущение и отца и сына по поводу известия в 1864 г. о ссылке Чернышевского на каторгу. 11-летний Вл. Соловьев уже тогда счел это большой несправедливостью в отношении уважаемого писателя и философа. Факт этот ярко свидетельствует о том, насколько ярко и глубоко и насколько давно, почти в детстве, залегали корни соловьевского либерализма, принесшие в дальнейшем весьма значительные плоды.
Вероятно, не без влияния материализма Вл. Соловьев поступил сначала на физико-математический факультет, где преподавались не только математика и физика (их он никогда не любил), но и все естественные науки. Вл. Соловьев увлекался в те годы биологией, а из биологии больше всего зоологией и ботаникой. Но достаточно было ему только провалиться на каким-то экзамене на II курсе физико-математичсского факультета, чтобы он тут же перешел на историко-филологический факультет того же университета и с еще большим рвением приступил к изучению чисто философских наук.
О том, с какой страстностью Вл. Соловьев стал овладевать философией и знакомиться с такими прежними властителями умов, как Хомяков, Шеллинг и Гегель (впрочем, не без интереса к Канту и Фихте), об этом свидетельствует тот, например, факт, что уже в течение первого года по окончании университета он написал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 1874 г.
Между прочим, имеются некоторые сведения о пребывании Вл. Соловьева в Московской духовной академии в качестве вольнослушателя в промежутке между окончанием университета и защитой магистерской диссертации. Хотя Вл. Соловьев в течение этого года и проживал в Сергиевом Посаде (теперешнем Загорске), где помещалась Московская духовная академия, но из свидетельств бывших его однокашников по учебному году видно, что лекции Вл. Соловьев почти не посещал, со студентами Академии знакомств не заводил, жил в предоставленной ему комнате крайне уединенно, к окружающим относился достаточно свысока, и по всему видно, что серьезного влияния Духовная академия на него не оказала. И не трудно догадаться почему. Вл. Соловьев потратил этот год на подготовку к магистерскому диспуту, был слишком углублен в создание собственных философских и богословских концепций, чтобы чему-нибудь существенному поучиться у тогдашних профессоров Академии, проводивших, конечно, традиционную официальную богословскую линию, далекую от его уже тогда создававшейся сложной философской системы.
Написание и защиту диссертации 21-летним молодым человеком надо считать чем-то удивительным и поразительным даже для тех времен, когда диссертации хотя и содержали всего несколько десятков страниц и почти не имели научного аппарата, но зато должны были опираться на твердо обоснованную собственную теорию. Эта работа молодого Соловьева ярко свидетельствует о необычайном напоре, а также о простоте и ясности его философского мышления, о его убедительности и очевидности, соперничавших с его глубиной и широтой исторического горизонта.
В июне 1876 г. Вл. Соловьев приступил к преподаванию в университете, но из за профессорской склоки в марте 1877 г. покинул Москну и перевелся в Петербург. Там он стал членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в университете, где в 1880 г. защитил докторскую диссертацию. Но игравший в Петербургском университете основную роль М. И. Владиславлев, который раньше столь положительно оценил магистерскую диссертацию Вл. Соловьева, стал теперь относиться к нему довольно холодно, так что Вл. Соловьев оставался на должности доцента, но не профессора.
В 1881 г. преподавательская деятельность Вл. Соловьева навсегда закончилась после прочтения им публичной лекции 28 марта 1881 г.. в которой он призывал помиловать убийц Александра II. Поступок Вл. Соловьева был продиктован наивным, искренним и вполне честным его убеждением в необходимости христианского всепрощения.
Прочтение этой лекции, текст которой не сохранился, обычно считают причиной ухода Вл. Солольева из университета. Однако ради соблюдения исторической точности необходимо сказать, что в несколько более ранней публичной лекции, от 13 марта того же года, Вл. Соловьев энергично протестовал против всякого революционного насилия (См. 3, 417—421). После прочтения лекции от 28 марта петербургский градоначальник хотел сурово наказать Вл. Соловьева. Министр внутренних дел - М. Т. Лорис-Меликов написал Александру III докладную закиску, в которой указывал на нецелесообразность наказания Вл. Соловьева ввиду его всем известной глубокий религиозности и ввиду того, что он сын крупнейшего русского историка, бывшего ректора Московского университета С. М. Соловьева. Александр III счел Вл. Соловьева «чистейшим психопатом», удивляясь, откуда у "милейшего" его отца, С. М. Соловьева, такой сын, которого К. П. Победоносцев именовал "безумным". И дело осталось без серьезных последствий.
Все же из университета Вл. Соловьеву пришлось уйти, хотя его никто не увольнял. Да и ушел он, как можно думать, не столько из-за шумихи по поводу его лекции, сколько потому, что весьма не любил преподавание с его принудительными моментами вроде лекционных программ, расписания лекций, студенческих экзаменов, ученых советов, отчетов и т. д. Несмотря на обширные философские знании и редкую научную выучку, Вл. Соловьев чувствовал, что в его жилах билась кровь проповедника, публициста и вообще оратора, литературного критика, поэта, иной раз даже какого-то пророка и визионера и вообще человека, преданного изысканным духовным интересам. Быть профессором было для него просто скучно. На этих свободных от казенных форм путях деятельности Вл. Соловьев целиком отдается написанию произведений чисто церковного характера, которые уже были подготовлены его философско-теоретическими раздумьями. Он задумывает трехтомный труд в защиту католицизма, но но разным причинам цензурного и технического характера вместо этих запланированных трех томов вышла в 1886 г. работа "История и будущность теократии", а в 1889 г., уже на французском языке, в Париже, "Россия и вселенская церковь". В связи с этим в области богословия у Вл. Соловьева появилось много врагов и неприятностей, вплоть до запрещения ему печатать труды на церковные темы. Но опять-таки и здесь Вл. Соловьев нашел для себя выход. Глубокий ум и широкая натура философа обеспечили ему работу не менее интересную, чем богословие, а именно работу литературно-критическую и эстетическую. Впрочем, в последние годы своей жизни и особенно с 1895 г. он возвращается к философии.
Вл. Соловьев был "бездомный" человек, без семьи, без определенных занятий. Человек он был экспансивный, восторженный, порывистый и, как мы сказали выше, живал большей частью в имениях своих друзей или за границей. К концу 90-х годов здоровье его стало заметно ухудшаться, он стал чувствовать неимоверную физическую слабость. Будучи в Москве летом 1900 г., он принужден был в июле приехать в подмосковное имение Узкое, принадлежавшее тогда кн. Петру Николаевичу Трубецкому, в котором жили также друзья Вл. Соловьева, известные московские профессора Сергей Николаевич и Евгений Николаевич Трубецкие. Кончина Вл. Соловьева произошла в этом имении Трубецких 31 июля 1900 г. вследствие артериосклероза, болезни почек и общего истощения организма. Похоронен он был на Новодевичьем кладбище, вблизи могилы его отца.
Так безвременно оборвалась жизнь человека, которому едва было 47 лет и который отличался небывалой силой философской мысли, небывалым владением мировой философией и напряженной духовной жизнью.
Самым же интересным фактом биографии Вл. Соловьева является то, что почти всеми забыто или, быть может, намеренно замалчивается. Это — избрание Вл. Соловьева 8 января 1900 г. почетным академиком Академии наук по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности. Правда, это избрание слишком запоздало, поскольку Вл. Соловьев скончался через полгода после этого. Тем не менее подобное высокое избрание, несомненно, свидетельствует о примирении официальной России с Вл. Соловьевым, что, конечно, не разрешает, а, может быть, только углубляет те трудности в понимании церковно-политического мировоззрения философа.
АТЕИЗИ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА НАУКУ И ЖИЗНЬ.
(Из записок А. Лосева. Новочеркасск, 16-17 июня 1909 г.).
Статья А.Ф.Лосева (1893-1988) "Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь" (маленькая, сшитая самим автором тетрадка) написана юным гимназистом 6-го класса в 1909 году летом, когда он находился, как обычно, на каникулах в станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский), куда он приезжал из Новочеркасска к родственникам. В старших классах гимназии А.Ф. настолько серьезно занимался древними языками, литературой и философскими проблемами (достаточно сказать, что Платон и собрание сочинений Вл.Соловьева уже находились в библиотеке гимназиста), что, по словам самого Лосева, он окончил гимназию в 1911 году уже сложившимся филологом и философом. Маленькая статья об атеизме написана с юношеским максимализмом. Однако уже здесь вполне очевиден интерес юноши к мировоззренческим вопросам и заметны логические основания для постановки проблемы веры и разума, которая так блестяще была разработана с позиций интеллектуальных и эстетических в книге 1930 года "Диалектика мифа" (особенно с.133-142), послужившей поводом к осуждению автора на 10 лет лагерей (строительство Беломорско-Балтийского канала, откуда А.Ф. был досрочно, в 1933 году, освобожден, вернувшись в Москву "без судимости"), В той же книге интереснейшие страницы очевипосвящены мифу о материи (с.141-174), иронический монолог о которой можно прочесть в книге А.Ф.Лосева "Философия имени" (1927, стр. 214-217). - Профессор А.А.Тахо-Годи
Среди треволнений и несчастий текущей жизни русского народа у нас все сильней и сильней развивается неверие, самый грубый и принципиальный атеизм. Если почти все влияния Запада были для нас благодетельны, то влияние атеистов нужно отнести к явлениям самым гибельным и нежелательным. Недаром так упорно не поддается народная масса переделке ее жизни на началах учения атеистов. В данном случае сопротивление низших классов благодетельно для простодушного мужика. Лучше заблуждаться бессознательно, чем сознательно совершать великие ошибки.
Сущность учения атеистов заключается в отрицании Божества, в отрицании возможности бытия совершенного Разума, а следовательно, и влияния Его на жизнь природы и человека. Вся вселенная, согласно этому учению, есть только материя, движение и форма. Она вечна и бесконечна, явления в ней строго подчинены определенным законам, которые как таковые и исключают всякое сверхъестественное вмешательство.
Атеизм зародился в глубокой древности. Он появился, надо полагать, как следствие упадка общественной нравственности. Чем человек нравственно выше, тем более он религиозен, тем впечатлительнее он к проявлениям Божественного Разума. Ведь Бог не только служит предметом познания ума, он еще та цель, к которой мы должны стремиться. А поэтому понятно, что, если мы становимся выше в нравственном отношении, мы ближе к Богу и что, совершая дурные поступки, то есть становясь безнравственными, мы удаляемся от Бога и, быть может, даже его отрицаем. Итак, атеизм зародился на почве нравственной испорченности. Зарождается он и теперь в каждом человеке, коль скоро тот забывает о своих нравственных обязанностях. Постоянные удовольствия, часто не совсем невинные, превращение забот о материальном благосостоянии в прихоти и пр.- все это не дает нам возможности глубже вникнуть в те истины, которые даны нам в Евангелии, исключает возможность стать истинными последователями Христа. Мы замыкаемся в круг исполнения требований нашей физической природы и в конце концов начинаем отрицать Бога. Таково истинное происхождение атеизма в истории и сознании отдельного человека.
Наши ученые, занимающиеся естественными науками, думают приобрести из наблюдения природы истинное понятие о Боге. Действительно, природа свидетельствует о совершенстве, мудрости и величии ее Творца и в самом деле способна сделать всякого непредубежденного человека истинно религиозным. Но все дело в том, что многие ученые-натуралисты (а они, собственно, и являются атеистами) не имеют той способности, которая бы давала им возможность если не познать, то ощутить Бога в природе, они являются людьми с предрассудками, как это и ни странно звучит на первый раз. Да, эти ученые, провозглашающие объективность в научном исследовании, не поступают так сами. Они приступают к изучению явлений природы с тем предубеждением, что Бога нет. А другие, "осмотрев все небо и не найдя там следов Бога", как выразился астроном Лаланд, обращаются к другим наукам, наукам метафизическим и, не находя возможности употреблять при изучении их те же средства, что и в экспериментальных науках, отрицают их, а следовательно, отрицают и бытие Бога. Вот вам другая причина появления в человеке атеизма. Атеизм покоится, следовательно, на почве нравственной испорченности, на почве одностороннего изучения науки (например, только наук естественных) и принципиального нежелания во всяком случае не веровать в Бога и Его установления на земле. Известно изречение английского мыслителя Бэкона, что недостаточное знакомство с естественными науками склоняет людей к безбожию, основательное изучение их - приводит людей к Богу. Да это и понятно. Нахватавшись верхушек из естественных наук, нельзя судить о всей природе; только глубокое и основательное их изучение, дающее возможность иметь связное представление о том, что такое окружающий нас мир, может иметь положительные результаты в религиозном отношении. Вот Ньютон, снимающий шляпу при произнесении кем-нибудь слова "Бог", вот Гершель, говорящий, что чем ближе раздвигается область науки, тем более является доказательств существования Вечного, Творческого и Всемогущего Разума, вот Фламмарион, вот Коперник, Галилей, Паскаль, Кеплер, Линней, Кювье, Фарадей, Либих, Фехнер, Медлер, Фай, Вирхов, Т. Мюллер, Гумбольдт, Араго и пр. и пр.- вот люди, действительно посвятившие себя изучению наук внешнего и внутреннего мира, действительно "ученые" - и что же? - они все религиозны. Бюхнер, Фогт, Молешотт, эти апостолы атеизма - они очень и очень далеко не считаются первыми величинами в естествознании.
Если верить Пфенигсдорфу, 92 процента естествоиспытателей принадлежат к числу верующих, 6 процентов - индифферентны в делах религии и только 2 процента - атеисты.
Иногда говорят, что появление особенно большого числа атеистов в XVII-XX столетиях есть реакция средневековому католицизму. Тем хуже для неверующих ученых! Они не правы, потому что свое справедливое озлобление против гнета папского деспотизма делают неосновательным, перенося его на всю вообще церковь, игнорируя ее благодетельное влияние на жизнь человека. Словом, атеизм, как можно видеть из вышесказанного, есть явление противоестественное, болезненное и силой стремящееся переделать на своих уродливых началах человеческую науку и жизнь. Накануне появления на Земле Божественного Учителя было так много атеистов, что они окатывали колоссальное влияние на общественную жизнь Рима и Греции и вели ее к скорейшему разрушению. Лучшие люди тогдашнего времени, как Цицерон, Сенека и др., резко восставали против них и осуждали неосновательные убеждения Лукреция, Петрония и всех прочих родоначальников современного атеизма. Да и вообще, в древности атеизм вызывал сильную нравственную и религиозную оппозицию со стороны истинных философов и ученых. Но что не могли сделать отдельные люди, то сделало христианство, против чего безуспешно боролись языческие философы, то окончательно было побеждено христианскими философами и апологетами. Вплоть до XVI-XVII столетий не могла двигаться дальше человеческая мысль, и она была обречена на застой в Западной Европе благодаря злоупотреблениям силой Католической Церкви, на Востоке благодаря всеобщему народному невежеству. Не мог, разумеется, получить дальнейшего развития и атеизм. Но с XVII-XVIII столетий, когда орудие пап для реакции самостоятельному мышлению достаточно притупилось, атеизм, получив громадную поддержку в естественных науках, достигает в своем развитии удивительных размеров. Гоббс, Толанд, Ламетри, Кондорсе, Гольбах, Фейербах, Молешотт, Бюхнер, Карл Фогт, Штирнер, Швейцер, Ришпэн и многие другие - вот защитники материализма, пантеизма и сенсуализма, то есть, говоря вообще, атеизма.
Но ни один из них не дал более или менее основательных доводов в защиту исповедуемой ими веры в управление Вселенной одними естественными законами, без приведения последних в действие какой-нибудь силою свыше. Ни один из них не мог уничтожить противоречия между идеями, лежащими в основе человеческого существа и новыми взглядами на человека как на простой механизм, как на нечто, одушевленное в той же мере, что и обыкновенное неорганическое вещество. Эти ученые оказали самое пагубное влияние на развитие науки и на жизнь человека.
Атеизм легко решает "мировые загадки" и забывает об ограниченности человеческого разума. Он стремится к естественности, стремится изгнать из науки все непонятное, забывая, что его учение есть тоже, в сущности, метафизическое и что все так называемое знание только и возможно при наличности веры. Одну тайну атеисты объясняют другой и в то время, как христианская религия предполагает вполне понятную и в некотором смысле естественную идею веры в одно Начало всех других начал, одну Причину для других причин, атеисты создают непонятный заколдованный круг взаимодействия причин, где одна причина является следствием одного явления и основою другого. А другие допускают существование слепого случая, забывая целесообразность в природе. И первые и вторые, разумеется, поступают в данном случае, как баснословный барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя из воды за волосы. Но если все загадки решены, все тайны открыты, то к чему же наука?
Последняя отрицается атеизмом и с другой точки зрения. Истина (а она есть цель развития науки) представляет собою, как выразился один ученый, соответствие между мыслящим субъектом и мыслимым объектом. Но это соответствие возможно только тогда, если мы признаем общее начало и источник (притом единственный) человеческого мышления и мыслимого бытия. Теперь предположим, что такое общее начало отсутствует; следовательно, вышеуказанная связь исчезает, ибо в этом случае истинное познание невозможно. Но тогда опять тот же вопрос, для чего же наука? А между тем атеисты заключили с нею прочный союз, они, например, издавна соединились с материализмом и получили от него немалую поддержку. Опровержение материализма завело бы нас здесь очень далеко, а потому, чтобы не отвлекаться в сторону, мы пока прямо признаем, что материалистическое учение - несостоятельно. Итак, атеисты имеют пагубное влияние на науку, потому что, прославляя ее и держась крепко ее стороны, они, в сущности, в ней не нуждаются, они отрицают ее. Но в несравненно большей мере разрушающее влияние оказывает атеизм на жизнь. Да, влияние это больше чем пагубно, и тем больней становится, что у человека отнимают все святое, все, во имя чего он живет, трудится, во имя чего стремится к идеалу. "Хорошо то, - говорит Фейербах, - что соответствует потребностям человека" и "все - в человеке, все - для человека". Если мы совершенствуемся, если избегаем дурного, то это делается нами для достижения высшей цели, для достижения вечного блаженства и абсолютного счастья. Но если нет Того, Кто бы звал нас на этот путь к счастью, если нет в будущем ни одной отрадной светлой точки, то для чего все это стремление к идеалу, для чего нравственная жизнь? Проповедуя неверие, атеисты проповедуют бездумное пользование земными благами, безумный эгоизм и отчаянное веселие. Ведь по учению атеистов, основным правилом жизни, в сущности, является удовольствие как удовлетворение единственно законных потребностей чувственной природы, которая только и признается атеистами в человеке. Но удовольствие в той форме, какой учат ему атеисты, мало того что несостоятельно с нравственной точки зрения, оно не годится быть принципом здоровой жизни вообще. Атеист говорит: "исполняй животные твои потребности, ибо это цель твоей жизни". Отлично, пусть мы исполняем. Но эти потребности зависят от внешних обстоятельств. Сегодня я хотел чего-то, завтра вот это удовольствие мне нравится. К чему же в конце концов это ведет? Да к тому, что я, мечтавший сделаться свободным от Бога и религии, сделался бесхарактерным существом, вполне подчиненным явлениям внешнего мира. Где же та хваленая свобода? Где здесь правда? - Так-то ведет атеизм в пропасть, так-то заставляет мучиться всякого мало-мальски здравомыслящего и склонного к истинному добру своего адепта.
Принцип удовольствия видоизменяется еще в принцип личной пользы, коль скоро человек входит в соприкосновение с другими людьми. Но этот видоизмененный принцип удовольствия еще менее основателен для того, чтобы быть признанным как здоровая основа человеческих отношений. Один согласно требованию своей физической природы стремится к одному, другой к другому. Один берет взятки, другой, с точки зрения того же атеизма, признает полезным для себя не взяточничество, а незаконное достижение известной карьеры и старается помешать ему, третий... Не распространяясь дальше, скажем, что атеизм ведет к дикой борьбе всех против всех. Это ясно, как божий день.
Сами атеисты признают, что такое исполнение личных потребностей ведет к печальным результатам, и выдумали какое-то общее благо, с которым всякий в жизни должен считаться. Но если я - человек богатый и могу удовлетворять свои жизненные желания и страсти, то какое мне дело до бедноты? У меня нет ничего, что бы служило оправданием для помощи бедным, нет того, во имя чего я должен быть милосердным. Теперь. Если я беден, то я буду тянуть с своего соседа последние соки до тех пор, пока это будет возможно. И я буду прав: ведь я же исполняю естественные законы, то есть удовлетворение физических потребностей. Вот и "общее благо" атеистов отправляется в Лету. Но они не хотят смириться, они хотят дать законы, которым должен подчиняться всякий и которые имели бы целью поддержать уважение к общему благу. Но атеисты забывают, что подчиняться этим законам - значит нарушать другие законы, законы, данные ими же самими, которые говорят нам об исполнении материальных запросов. Естественно, необходимо привыкнуть к силе, к стеснению нашей свободы, если мы не будем исполнять этих последних законов. Но коль скоро сила, как основание законного права, является выше последнего - отсюда один шаг уже до произвольного насилия. Это опять повод к ожесточенной трагической борьбе за существование. Право силы, совместно с заботой о личной пользе и удовольствии, неизбежно заявит себя ужасами злодейства, на которые нельзя найти управы и суда; в атеистическом принципе личной свободы и удовольствия злодейство всегда найдет себе оправдание. Разумеется, при всеобщей борьбе и разрозненности интересов не может быть и речи о прогрессе. Словом, "общее благо" - мертворожденное детище атеизма.
Таково влияние атеизма на науку и жизнь. Не напрашивается ли здесь сама собою мысль о предохранении нас от него, о борьбе с его последователями? Не говорят ли нам о себе атеисты противоречиями в своем учении: "наши взгляды неосновательны; они продукты умственного недомогания"? Да, атеисты сами опровергают себя; они отталкивают всякого непредубежденного человека, действительно желающего решить вопрос: "что есть истина?" Довольно того, что под их влиянием погибло столько умов, столько теплых и любящих сердец; атеисты наложили на них печать железного механизма, воспрепятствовали развиваться им самим и принести пользу ближнему. Неужели же мы допустим, чтобы атеизм развивался дальше? Нет, мы будем бороться, и если наши попытки вернуть неверующих на лоно истинной религии не удадутся, то пусть они умрут, эти безбожники, эти хулители Христа и враги человечества, пусть на их месте появятся честные и добрые работники, которые поведут погрязшего в невежестве человека к истине, счастью, добру.
Будет, да, будет новая земля и новый совершенный человек, будет счастье и жизнь непорочная.
И над этой новой землей возвысится свод лазурного светлого неба и Солнце любви осветит людей дыханьем божественной правды. Все человечество будет хвалить, как один человек, своего Всеблагого и исполненного вечной любви Творца и Мудрого Промыслителя.
О Человеке: В. В. Бибихин о А.Ф. Лосеве
Алексей Фёдорович ЛОСЕВ (в монашестве АНДРОНИК) (1893 - 1988) - философ и филолог, профессор, доктор филологических наук, тайный монах Русской Православной Церкви:
В. В. Бибихин
ИЗ РАССКАЗОВ А. Ф. ЛОСЕВА
Каждый раз, когда я подходил к дому Лосева, Арбат начинал казаться особенно запустелым, люди на нем — совсем неприкаянными. Кабинет на втором этаже с окнами во двор излучал строгую отрешенность. Здесь думали. Большой человек в кресле с высокой ровной спинкой между заставленными книгами столом и бывшим камином бодрствовал в тихой сосредоточенности. “Здравствуй, Владимир”, — снисходил он к человеку, который являлся, чтобы читать вслух, переводить или излагать прочитанное, — к недавнему институтскому выпускнику, которому делалось так не по себе в местах службы, что он без сожалений оставлял их и оказался под конец в этом сумрачном кабинете.
Среди чтения и диктовки Алексей Федорович заговаривал неожиданно о другом. Его книги вмещали не все, чем он жил, часто — только намеки на затаенные ходы мысли. Когда начинались его отступления, я, чувствуя несправедливость растраты такого богатства на одного меня, брал один за другим листки из щедрой стопки “оборотиков” — для экономии на черновики шла использованная с одной стороны бумага — и записывал, что успевал. Редко я решался перебивать его. Мы были такими неравными собеседниками, что, по-видимому, для него главным удовольствием от собственных рассказов оставалась разыгранная в одном лице драма идей, характеров, положений. Он был редкостный актер. Ни малейшей нарочитости. Захватывал простор сцены, пределы которой терялись из виду и на которой всему было вольготно. Алексей Федорович словно только комментировал, сам постановщик и сам увлеченный зритель. Отсюда бесподобная невозмутимость тона. Прибавьте редкостный словесный, музыкальный и миметический дар.
Я почти не пытаюсь восстановить пропуски в своих бедных записях. Немногие реконструкции обозначены скобками. Получились всего лишь обрывки речей, но в них — его подлинный голос и моя тогдашняя зачарованность. Ниже отобрано то, что так или иначе касается П. А. Флоренского. Это отчасти уже известные вещи; за Алексеем Федоровичем их записывали не раз (см., например, Литературная учеба. 1988, № 2. С. 176—179, правда с явной предвзятостью в позиции публикатора). В новой связи они, однако, яснее показывают, как все у А. Ф., и античное и современное, было связано чувством воплощенной близости высших сил.
Если бы кто-нибудь или я сам предположил тогда, что с Лосевым можно спорить, я испугался бы. Если не он прав, то кто же? В конце концов, его мысль была неоспоримо оправдана уже просто тем, что жила. Никто не смел судить со стороны, не рискнув думать сам. А рискнув, не захотел бы уже судить и спросил бы о другом, — почему Алексей Федорович во многом остался подземным вулканом, чьи взрывы искаженно отдавались во внешних слоях.
Есть вещь такая, непреоборимая — вера. Такая же густая и непреоборимая, как мысль. Есть такие истины, как дважды два четыре, которые нельзя изменить, и в вере. Хотя многим это кажется глупым и неверным и отсталым.
Есть в человеческой душе такие разные области... Их можно объединить, кто способен. Владимир Соловьев — мог объединить, большинство — нет. У большинства одно — в виде мифа, другое — в виде теоремы. Они и в то и в другое верят отдельно. А есть люди — как Флоренский, Соловьев — те умеют объединять.
Да не всякому такое и нужно... Бабке нет дела до науки, бабка крестится и живет верой. Так и ученый — решает свои теоремы и не понимает, что теоремы эти странным образом реальны. Всякое А имеет причиной В, за В следует С, за С следует D. Бесконечное множество причин. Где же причина всего? Считают, что правильно делают, доискиваясь до причин. Но если есть последовательность причин АВСD, то где-то есть же причина, которая зависит от себя самой? Значит, есть causa sui — причина себя самой? Значит, приходится принять бытие, которое действует, но не под действием чего-то другого, а самостоятельно, оно само? Или — дурная бесконечность причин...
Ну ладно, хорошо.
Флоренский, “Предсмертное слово о. Алексея Мечева”? А надо говорить “Мечёв”. (Да, Флоренский был верующим, редкость среди просвещенных.)
Один очень важный человек — уклонюсь в сторону... В начале 30-х годов я тут встретил в одном месте, не слишком официальном, бывшего ректора Духовной академии, епископа Феодора . Реакционер, твердый, все семинаристы трепетали. В него стреляли в 1905 году. На суде над стрелявшим епископ Феодор сказал только:
“Я прошу этого постановления не принимать, а молодого человека отпустить на волю”. Так властно, так твердо сказал, что этого молодого человека отпустили, и он так и пошел, как ни в чем не бывало.
Компания, в которой я оказался с епископом Феодором, не очень казенная была. “Как Вы такого декадента и символиста, как Флоренский, поставили редактором “Богословского вестника”, —я спросил, — и дали ему заведовать кафедрой философии?” — “Все знаю. Символист, связи с Вячеславом Ивановым, с Белым... Но это почти единственный верующий человек во всей Академии!” — “Как так?” — “Судите сами. Богословие читает профессор Соколов. Патрологию — Иван Васильевич Петров . Психологию Иванцов. Настолько все захвачены наукой, немецкой, тюбингенской, что начинают комментировать текст Священного писания — и разносят его до основания. Например, в Евангелии есть фраза: “Крестяще их во имя Отца и Сына”. Тюбингенская школа говорит: позднейшая вставка, результат редактирования в IV веке, на Втором вселенском соборе. И так далее. Получается в конце концов, что весь евангелист состоит из одних вставок: это — отсюда, это — оттуда, это — из Индии, то — из Египта. Срам! Но я Вам скажу, что недавно найдена армянская рукопись II века, там эти слова имеются... Флоренский—один верующий из всех”. — “Да он же декадент, и светский человек!” — “Да! Но вот лично я утвердил “Столп и утверждение истины” для защиты в качестве магистерской диссертации. Едва отстоял, ездил специально в Киев, добился принятия. И я его сознательно назначил на кафедру, потому что он единственный верующий человек в Академии. 1905— 1911 годы вообще наказание Божие. Когда я стал ректором Академии и познакомился с тем, как ведется преподавание, со мной дурно было. Такой невероятный протестантский идеализм — хуже всякого тюбингенства. Тареев, например, пишет “Самосознание Христа”. Самосознание! А личность Его была? Ничего об этом не говорит”. Вот тебе эпизод. Интересно? Вот Духовная академия накануне развала.
Епископ Феодор умный. В Академию приезжал митрополит Макарий, старец восьмидесяти лет. “В богословии разбирался. Но его беда была — семинарист, не получил высшего образования. Тем не менее постепенно дошел до митрополичьего сана. Духовной академии он боялся. Все же приехал, выразил желание посетить занятия. С дрожью в руках даю ему расписание. Что выберет? А и выбирать-то нечего, ведь это же вертеп! Застенок! Выбирает — “психология”. Я ахнул. Психологию ведет профессор Павел Петрович Соколов. Владыка думал — будут говорить о душе, что-то важное. Пришел, сидит, слушает. Ну, во-первых, душа набок, никакой души нет, “мы изучаем явления психики”, вульгарный материализм. Сегодняшняя лекция — тактильные восприятия. И пошел — булавочки, иголочки, рецепторы, ощущения. Проводит опыты, вызывает студентов. И так вся лекция. Вышли. Смотрю, митрополит идет с поникшей головой, серое лицо. “Владыка святый! — говорю ему (все архиереи — владыки), — я вижу, у Вас неблагоприятное впечатление. Зайдите ко мне, я Вам все расскажу. Не обращайте внимания, владыка, на этих дураков. Это не профессора духовной академии — это дураки духовной академии. И как он смел при Вас излагать всю эту пакость! А знает, что Вы его начальство!” “Да, да... я, убогий, не понимаю...”, — говорит Макарий. “А тут и понимать нечего! Все вздор!” Так и пошел митрополит оскорбленный, огорченный; я не смог его утешить. Ведь чтобы бороться с Соколовым, всю сволочь надо разогнать. Так этот Соколов и остался на кафедре. И—до самой революции, когда революция его разогнала”.
Вот состояние развала накануне революции! Да, Флоренский символист, но в вере он не равнодушный человек, искатель. Старое ушло; Пушкин, Лермонтов, они правду говорили, да они были давно, а тут на дворе двадцатый век. Официальная церковь повторяет старое, интеллигенты отошли от веры, а Флоренский и со всеми декадентами был близок, и искал новых путей в вере.
Я все-таки человек системы, заниматься Флоренским и хотел бы, да здесь надо иметь всю литературу, а ее не достать. Да и писать нельзя. Никто им теперь не занимается. Что, в Москве очень многие интересуются Флоренским? Некоторые и в “Философской энциклопедии”? Мальчишки, как ты. Вот Константинов, главный редактор “Философской энциклопедии”, хочет за нее Ленинскую премию получить, а в журнале “Коммунист” готовится статья: “Богословская энциклопедия”. Не знаю, выйдет ли. Но если выйдет — ведь это же орган ЦК!
Вячеслава Иванова изымали при Сталине и Жданове. Его жена, Зиновьева-Аннибал, была из аристократической семьи. Но он, поэт, символист, никакой политики — так все равно изъяли! Не знаю, сейчас, наверное, до этого не дойдут. Бальмонта напечатали, Анненского напечатали. А Иванов? Это же мировой поэт. Давно пора бы его напечатать...
У Платона трансцендентальное доказательство бытия Божия, интереснейшее доказательство. Оно есть у Канта: нельзя мыслить предмет в его полной изоляции и несравнимости, [но, переходя от одного предмета к другому, мы приходим к независимому первоначалу ]. Только у Канта все это происходит в субъекте, а объект — мы о нем ничего не знаем. Объекты и надо бы применять [в доказательстве ]. Субъект — ошибка Канта. Но не ошибка, что для пространства нужна пространственная вещь. Поэтому Шеллинг говорил об априорной [необходимости существования предмета]. Одно зависит от другого. Другое от третьего. У всего есть свои причины. А когда же кончим? Платон говорит: мы идем либо в дурную бесконечность, либо к такой вещи, которая себя движет. Либо вообще откажемся от всякого объяснения — либо с необходимостью есть нечто последнее, само себя движущее.
Дуализма, манихейства у Платона в Х книге “Законов” нет. Материя иррациональна, она служит для воплощения идеи. По-моему, здесь ничего нового, здесь типично платоновское учение.
Платон говорит, что в видимом Солнце нужно видеть невидимого бога, душу Солнца. Значит ли это, как писали в прошлом веке, что у Платона здесь наивное отождествление вещи и ее духа? Если ты меня читал, у меня же есть об этом, с документами из древнейшей истории. Мифология начинается с фетишизма. Что такое фетиш? Полное совпадение тела и души. Потом появляется анимизм, более развитое состояние мышления. Дриада не привязана к этому вот дереву (как Гамадриада) дерево погибло, а другое дерево есть, древесность остается. Мысль переходит тут к более общему представлению. Души эти сначала очень слабые; потом все крепче убеждение в разумности [в основе вещей]. Можно по источникам все это проследить. В конце концов мысль доходит до единого Бога.
Но как все-таки Платон в Х книге “Законов” решает вопрос о зле? Для чего зло в мире? Зло — нужно... Августин говорит: первобытный человек, Адам, мог грешить, posse peccare; его потомки не могут не грешить, non posse non peccare: спасенный человек — не может грешить, non posse peccare. Но грех так или иначе в мире есть. Ведь часть ангелов утвердила себя в Боге с самого начала, и так держится, а другие — нет, отпали. Потому — зло. Божественное начало пробивается с усилиями среди преступлений, грехов, добро творится постепенно, и пока все добро в мире не сотворится — мир будет во зле. Как только все добро исполнится — история мира кончается, жизнь и развитие будут продолжаться, но уже без мучения. Будет вечная жизнь. А вечность — всегда юная. Процесс восхождения в царстве божественном есть — но без убыли, без болезни.
Так видишь — здесь у Платона, в десятой книге “Законов”, христианский аргумент, с одним ужасным исключением. Зло существует для добра Целого. Но тут нету того, что пришло с христианством,- острого чувства отпадения от божества, когда Бог проклинает человека, оставляет его одного, и он должен сам все делать и тысячелетия вариться. Скорбное падение и жажда искупления — этого у Платона нету. Кое-что, конечно, есть... Но нету чувства отчаяния, падения природного греха. Он не жаждет искупления. Словом, нету личности, нет личного самочувствия.
В чем трагедия личного самосознания? Мир — во зле, а Бог — добро. Объяснить логически? Как Платон? Этого мало. Нужны слезы, покаяние; для этого нужно, чтобы были люди в пустыне, которые по десять лет насекомыми питаются, — настолько христианин боится падения и рвется к искуплению. Вся новость христианства — откровение абсолютной личности.
Личность! Не вода, воздух, элементы, а мы несем груз всего предыдущего человечества, взяли на себя все его заслуги, все пороки. Потому христианство так трансцендентно. Что делать мне лично, чтобы исполнилась воля Божия? Человек не знает! Поэтому Христос говорит на кресте: “Боже мой, почто меня оставил?” А это было намерение Бога — довести человека до полного отпадения и оторванности его существа. Отпадение! Когда человек пройдет через это — конец истории. Человека Бог проводит через этот предел, через это последнее отпадение, через полный мрак и ужас. И человек должен через все пройти. Поэтому христианин так страдает и бьется. Мы как в океане — кругом волны — буря бушует — что же делать, куда пойти? Везде ужас, везде зло и гибель, страдание, и он на перепутье, один среди всего этого хаоса. Страшная жажда спасения, вечное волнение и беспокойство.
В платонизме такого страстного поиска нету — и в неоплатонизме, который тоньше, тоже нету. У Плотина, у Прокла — “умное восхождение”. Как индусы. Техника, видимо, была очень сильна, действительно погружались в чистый Ум. Но — ни малейшего сознания своего греха, ни малейшего сознания грехопадения. Плакать не о чем. Все само собой сделается. В связи с этим нужно толковать и платоновское опровержение деизма.
Потом с судьбой они тоже не умеют обращаться. Судьба у них высокая, выше богов, в конце концов. Язычество безлично, и боги тоже должны управлять безлично — силою, которая сама не знает, что делает. Полный антипод христианству. Для христианина судьба — то, что неожиданно, случайно, второстепенно. Да, есть судьба, может неожиданно случиться, но на взгляд христианства — “такова воля Божия”; по существу никакой судьбы нет. И это недоступно Платону и Аристотелю. Греки доходят до этого, например, в атомизме Демокрита. Гегель говорит, что демокритовский атомизм — это принцип индивидуализации. Но абсолютная личность и ее священная история — это только в христианстве.
В “Законах”, книга X, главы 14—15, Платон назначает смертную казнь — “и одной, и двух мало” — за нечестие, за непочитание богов. Он без дураков... За малейшее непризнание богов — смерть. “Старческое”? “Старческий стиль?” Не старческое. А просто — он натерпелся. Натерпелся! Настолько видел развал, что решил — всю эту сволочь пороть и на тот свет отправлять.
В воскресенье Пятидесятница, Троицын день, а в следующий за ним понедельник — Духов день. Между прочим, существует акафист Пресвятой Троице. Акафист — от k a q i z w “сижу”; a k a q i s t o n — “несидение”. Во время службы давали возможность отдохнуть, на кафизмах разрешалось сидеть. А то — a k a q i s t o V , т. е. несидельное время, в которое нельзя сидеть. Особо торжественные песнопения. Акафист состоит из вступления, заключительной молитвы и маленьких стихир. Они поэтичные, каждая строка начинается с “радуйся”, c a i r e . Например: “Радуйся, афинейские плетения растерзающая”. Есть акафисты Иисусу Сладчайшему. Акафисты всем святым. Но более потрясающего, чем акафист Божьей Матери и Иисусу Сладчайшему нет. Замечательное богословие и замечательная поэзия. Особенно если читать по-гречески.
Я вспоминаю молодость, ездил тогда по монастырям, где только еще мог застать. Монастырская служба, полная, содержит то, что наши светские батюшки опускают. Нельзя не опускать. Мужики заняты, им надо спешить заняться делом, хозяйки полны забот о доме, мусор вымести, пищу приготовить, для Бога времени нету. А в монастыре — замечательно. Архиерейская служба особенно. Поют три мальчика, это не то, что голоса баб сорока-пятидесяти лет. EiV polla eth despota — звонкие, чистые голоса десятилетних мальчиков. Это многолетие — целая часть литургии, когда присутствует архиерей; диакон кадит, и три мальчика поют. Чувствуется зримо благодать епископа.
И вот я помню Акафист Пресвятой Троице, в службе на Троицын день. Ну я тебе скажу, ведь это проспект десяти богословских диссертаций. И с тех пор я этого не слышал. Эти попы светские, я их терпеть не могу.
Монастырская служба продолжается шесть-семь часов. Литургия — тоже; начинают рано, в семь утра, и кончают к двум часам дня. Потом — монашеское пение другое, нету приемов светских и нет женских голосов, которые слышишь в обычной церкви — отвратительно. Эта вычурность, это оперное пение — отвратительно все.
Настоящая служба только в монастыре. И, конечно, теперь русский мужик ничего этого не знает. Но я тот мужик, который еще захватил конец. И с этим воспоминанием я живу всю жизнь. Теперь эта культура исчезла, ее нигде нет. Русский мужик все это уничтожил. А какое было величие! Недаром Флоренский написал статью о православном богослужении, “Храмовое действо как синтез искусств”.
Я был свидетелем того, как эта культура исчезла. При мне пятьдесят лет лиц духовного звания всё высылали и высылали. Как только начинает входить в жизнь своих духовных детей, как появляется кто чуть поумнее, постарательнее — сразу высылают.
У Флоренского еще больше о богатстве православного богословия в лекциях “Смысл идеализма”, они вышли отдельной книжкой.
Начало декабря 1972
Скажу по секрету, я христианин. Для меня величайшее достижение в смысле христианского подвига — исихазм. Это значит — не о теле думать, а о Боге. В исихазме мысль выше разума. Разум — разлагает. Я, хотя всю жизнь занимаюсь наукой, все же недостаточно воспитан. (Возможно, именно по этому самому, что занимаюсь наукой.) Как-то должно быть по-другому. Должны быть зачатки неевропейского типа. A p l w s i V , опрощение: все настолько становится просто, что нет ничего. Также это и q e w s i V , обожение. Человек становится как бы Богом, но не по существу, — что было бы кощунством, — а по благодати. Это возвышается над разумом, человек держится уже только верой. Ничего не остается. И даже о самом Боге человек перестает думать. Ведь Бог для нас обычно — это система богословия. А тут — полная неразличенность. Исихасты называют свое видение божественным светом. В нем — ни чего-то более светлого, ни более темного, а один свет...
Но я думаю, что мы искажены — всей суетой, разными заседаниями, — так что психика не может добиться простоты, a p l w s i V . Если могла бы, то только от природы. Как от природы человек злой, или мягкий. Есть люди, которые способны [к исихии, к совершенному видению]. Но только не в нашей Европе. Может быть, последнее, что [знал в смысле такого видения европейский человек],— это Abdeschiedenheit, отрешенность немецких мистиков.
Флоренский? Я его мало знал. Человек тихий, скромный, ходивший всегда с опущенными глазами. Он имел пять человек детей. То что он имел пять человек детей, кажется, противоречит отрешенности. Я видел его несколько раз, даже ночевал у него один раз, идя из Троицы в Параклит. Ночь. Некуда деваться. Пойду к отцу Павлу! Я был мальчишка, все равно где спать. Пришел. Отца Павла нет. Он ведь и инженер. На службе тогда было очень строго. Был уже Сталин, приучавший всех работать и по ночам. Анна Михайловна меня немного знала. “Простите, некуда деться, я как нищий за подаянием; иду в Параклит, подайте Христа ради, приютите; в Москву ехать не хочу”. Пожалуйста. Положила меня на диван. “У меня пятеро душ детей”. Думается, что наличие такого большого семейства должно озабочивать...
Надо сказать, что у него была идеальная семья. Эти пятеро человек детей, — я сидел в гостиной на диване, Анна Михайловна чай готовила, — баловались, но ни малейшего раздора я в течение почти часа не заметил. То пляшут, то играют. А старших нет никого. Дети вели себя идеально. Это я собственными глазами видел. Я и тогда удивлялся, и сейчас удивляюсь; этот рассказ у меня один из первых, когда спрашивают. Как так получилось, не знаю. Ведь родителей нет, один на работе, другая занята...
Изложи с примерами, [чтобы было наглядно]. Сидя у себя в кабинете и сося лапу свою, я тут разные идеи у себя продумываю. Но мне надо почитать, чтобы это не было кустарно. А у меня античное. Договор на пятый том принесут — стоики, эпикурейцы, неоплатоники. У меня, собственно, все уже написано, но надо подчистить, подновить. Вот тут на столе Поленца работа, надо будет покопать.
И еще: ты не можешь достать двух небольших молитвенничков? У меня есть два человека ищущих, я хочу им подарить, чтобы поднять их дух...
Ты помнишь пещерный символ? Жалкая картина! Казалось бы, общая идея блага, все озаряющая, все должно сиять — а тут такая штука! Но в “Тимее” другое. Там все сверкает, все — излучение вечного света. А пещерный символ в VII книге “Государства” — это же кошмар!
“Платоническая любовь” — плоскость. И пошлость идет от ученых излагателей, которые понимают все банально. Тут на самом деле драма, это мы знаем. Но посмотрите, почему эти влюбленные говорят? [Что ими движет? ] Тут логика, неимоверная логика, гегелевская логика. Вот в чем суть моего понимания Платона. Моя мечта — описать его стиль. Он, [кроме того, что логик], и драматург, и лирик, и историк — в третьей книге “Государства”. Такой разносторонний гений. Я получил книгу “Диалог у Платона”. К концу жизни способности спадают, диалог становится бледнее. А такие диалоги, как “Протагор”, — там такое увлечение, что дело доходит почти до драки.
Поэтому Лосева не поймаешь. Логика? Да. Но я о Платоне еще там напишу, где мифология и поэзия. Перед этим надо будет, однако, разрушить пошлое представление, будто поэтическое у Платона — фикция. Не фикция!
У Карпова Платон получается нудный, со славянизмами. В то время как он живой, подвижный, непостоянный, его таким вялым дураком изображают. Поэтому если эту мою статью пропустят, то свежим ветерком повеет в советской литературе.
... [Или Бог целиком потусторонен, и тогда он совершенно невидим]; или Бог воплотился в человеке, и тогда Бог изобразим. А если он совершенно непознаваем, неприступен, то и Христа не было! Изобразить человека дело маленькое, достаточно позвать портретиста. Другое дело — изобразить Богочеловека, потому что сама сущность Божия должна быть явлена в иконе.
Икона должна быть написана так, чтобы сущность явилась именно как субстанция. Поэтому икона праведника не просто изображение, но несет энергию этого человека, [приблизившегося святостью к Богу ]. Конечно, не та благодать, что в человеке, но все же. Потому и надо икону вешать в комнате, что от иконы благодать излучается, свойственная святому. Субстанциальное тождество. А несубстанциальное тождество изображения и изображаемого — это в каждом художественном произведении, тождество метафорическое, или символическое, в пошлом смысле слова. Я-то символ понимаю глубоко, как тождество субстанциальное, — чисто переносное, образовательное, но также и благодатное, тождество не только глазу, но и такое, которое дает изображению действовать теми же энергиями, что и изображаемое.
Флоренский говорит в № 9 “Богословских трудов”, что икона — окно в другой мир. Там же есть исследование Попова Ивана Васильевича, которого я хорошо знал. Но интересно, что у Флоренского это рассуждение не только философское, но и богословское, и искусствоведческое, — для него ведь это одно и то же.
[На краю жизни бывают] всякие предсмертные видения. Никто об этом не говорит. Мне о. Павел Флоренский говорил: незадолго до момента смерти глаза умирающего устремляются куда-то вдаль. Это несомненно приближение смерти с косой. Это всегда — сознательный, упорный взгляд. Но люди ничего не говорят.
И я тоже стал наблюдать, расспрашивать, — ну, как умирал. Не настойчиво, стараясь, чтобы сами сказали. Знаешь, очень часто, почти в половине случаев, оправдывается это наблюдение о. Павла. А то, говорят, просто глаза были закрыты. Или: глаза добрые, прощался. Но если прощался — значит не последние секунды жизни! А вот в последние секунды? Как-то мне одна знакомая говорит:
“Александр Александрович перед смертью далеко-далеко куда-то посмотрел, и ничего не сказал”. Так что последняя минута — это тайна, которую никто не знает. Разве священнику кто исповедается. Многие верующие умирают, правда, без приглашения священника.
Вот один умер грек, коммунист, эмигрант. Коммунисты там тоже сжигали людей, так что полковники правильно сделали. Жили очень дружно с одной преподавательницей греческого языка. Имели двоих детей. Неожиданно обнаружилось, что у него рак. Через несколько месяцев умер. Вероятно, неверующий. Да и она неверующая, или верует, но смущается об этом говорить. Но вот одна фраза, которую Валентина Иосифовна , его жена, запомнила: Михалис дня за два—за три до смерти сказал: “Знаешь, у меня душа от всех этих страданий потемнела”. Он очень страдал, так что приходилось делать уколы для ослабления боли. Эти слова можно и в положительном, и в отрицательном смысле понимать. Не знаю, в какую сторону здесь надо истолковывать.
Да, еще о. Павел сказал: одни ужасаются от этого предсмертного видения, другие — радуются. Те и другие уже знают, но не говорят: нет смысла говорить, кто ж из живых поймет.
Для нас с тобой это едва ли выдумки. Тут что-то есть.
Непознаваемая сущность является в своих катафатических энергиях. Так же мы говорили в начале века об имени Божием: имя Божие есть сам Бог, но Бог не есть имя. У Григория Паламы правильно. Свет Преображения — реалистический символ.
“Философию культа” Флоренского мне хотели передать, но того человека арестовали. Можно было бы получить теперь от Кирилла Павловича. Кирилл — я его держал на руках, когда ему было 5 лет. Я шел в Параклит, проходил мимо Лавры, надо было искать ночлег, я зашел к Флоренскому, хотя мало его знал. Его не было, он работал инженером в Москве. Анна Михайловна, его жена, слышала обо мне от него. “Пожалуйста, у нас целый дом”. Детишки, пять человек, час или полтора крутились около меня, но такие тихие: скачут, пляшут без единой ссоры, мал мала меньше; мать на кухне. Кирилл Павлович тут был. У Кирилла Павловича весь архив о. Павла. Все печатаемые кусочки — от него. Я к нему посылал. Через две недели ко мне приходят с отказом: не можем выдать. Не подействовала на него эта биографическая справка.
О. Павел Флоренский довольно бойко писал против Хомякова. У Хомякова Церковь есть истина и любовь как организм, или организм истины и любви. С точки зрения отца Павла, это звучит абстрактно. Тело Христово! Это вот не абстрактно; это миф, живое. Если есть у вас Христос, то есть и это.
О. Павел был замкнутый, со мной у него не было контакта, боялся меня как светского человека. Хотя должен был бы понять, что я также ищу. Да, правда, и времена закручивались... Приходилось прекращать знакомства, — только некоторые, немногие смелые люди находились, ходили ко мне, и я ходил к ним. Обо всем сразу становилось известно: а-а, собирались вдвоем-втроем, о Софии - Премудрости Божией говорили в квартире Лосева? Говорили? Тогда сразу становилось все известно, как по волшебству. Ты не знаешь, что значило встретиться вдвоем-втроем. Я чудом выжил. Классическая филология спасала: p a i d e u w , p a i d e u e i , e p a i d e u s a , e p a i d e u s e — вот и все... Не к чему придраться. Теперь, конечно, все легче, хотя времена другие... Вы не переживали, не страдали, дорогу прокладывали не вы, а мы; на наших плечах все вынесено; кровь проливали не вы, а мы. Вот и занимайтесь теперь, переводите Паламу. А мне уже и поздно. Переключаться сейчас на богословие, на Миня — всю литературу нужно менять... Нет, я буду уж по-прежнему заниматься Плотином. У меня много материала.
[Филон как неоплатоник. ] Филон — это возможные, но очень условные вещи. Он Библию признает, передовой. Но его толкование Библии я не люблю. Он опубликован, несколько томов издания Кона. Там есть интересные вещи, но они разбросаны среди воды, воды интерпретатора и переводчика.
Флоренского нельзя ставить на одну доску с Соловьевым: Флоренский бесконечно нервознее, зажат в тиски позитивистской культуры, а Соловьев эпичнее. Хотя оба они — уже русская философия совершенно новая, ничего общего не имеющая со Страховым и Тареевым. Со всей этой рванью богословской и философской Флоренский ничего общего не имеет: живой, нервозный, катастрофичный, который чувствует, что Россия стоит на краю гибели. Кто еще? Лев Тихомиров? Победоносцев? Иоанн Кронштадтский? Или великий князь Сергей Александрович, убитый не за что иное, как за свои убеждения? Чуткость Флоренского, его отчаяние перед наступлением нового века — как у них. Но те были политики, а Флоренский ненавидел политику. “Две науки, — говорил он, — дурны, археология и политэкономия”.
Соловьев не опознал декадентства, выступил против него с сатирой. А ведь все декаденты соловьевцы. Эрн, Федор Степун, Булгаков, Вячеслав Иванов, да и Бердяев — все соловьевцы. Но эти все — уже тронутые двадцатым веком, а Соловьев не заметил, что здесь, в декадентстве, попытка разбудить живые силы в человеке против Некрасова, базаровщины, против всего этого... Соловьев высмеивает брюсовский сборник 1890 года в пародийных стихах, не видит ничего положительного. Флоренский другое. Скажите, я его спросил, отец Павел, вы видели гениальных людей? Да. Это Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Василий Васильевич Розанов.
Флоренский продолжение Соловьева, но на другой ступени. Чрезвычайно нервозная натура, с ощущением катастрофичности. Я помню его доклады начала революции. Он говорил, все должно превращаться в муку, дойти до состояния бесформенности, и только тогда можно будет печь новые хлебы. Надо уметь видеть, в чем противоположность этих фигур. Хотя Соловьев подходил к тому же в “Трех разговорах”... У обоих одна плоскость — антипозитивистская, но они совершенно разные фигуры на этой плоскости.
ИЗ РАССКАЗОВ А. Ф. ЛОСЕВА
Оставив версию, что я англичанин, А. Ф. начал подтрунивать надо мной в другом направлении: я, как тибетец, могу ходить над землей (“англичане видели, как тибетцы перемещаются над землей с огромной скоростью, на милю например. Тренировка тела”.) и т. д.
— Неужели вы верите в такие вещи?
Да ведь как не верить. Ученые видели, рассказывают. Культура тела. Когда человек молится, он становится легким, и когда он погружен в созерцание, он становится невесомым. В одном монастыре был старец, про которого рассказывали, что он поднимался на воздух. Молодые монахи подглядывали в щелочку и видели, что он иногда поднимается на несколько над своей постелью, когда лежит на ней, повисит — и опять опускается. Объясняли это тем, что в молитвенном состоянии его тело становилось невесомым. Ведь даже в физике известно, что тело, которое движется со скоростью света, не имеет объема. Не имеет объема! Мы ведь очень мало знаем, только нашу землю, а ведь есть еще... [очень выразительно махнул рукой вверх].
[О попавшем под машину ребенке. ] Все делается по закону. Водитель пьяный. Дурацкая игра, играют на копейку: перебежишь перед носом или нет. Такие дикие игры у нас на Арбате, да и везде. Дети играют в покойников, в расстрелы, в фашистов. Ведь нами правит этот божественный ум, а мы все гибнем, как клопы! Вот это трагедия, действительно трагедия.
Сегодня занимались Ксенократом, после моих выписок он писал т. н. “эстетические выводы”. Мне это не нравится: слишком искусственно, явно для “порядка”, для “эстетики”, для “редакции”. Главные мысли у него идут помимо того, что он пишет. Говорил о вековом споре вокруг платоновского сотворения мира в “Тимее”. Ведь вся греческая традиция считает, что мир вечен, весь же ислам, христианство и иудейство находят здесь у Платона сотворение. Нет, у Платона идеи — впереди мира; возможно, был когда-то не мир, а хаос, но идея мира была. Но то же самое и в любом монотеизме. Вообще без идеи — никуда. Даже идея пальца — если бы ее не было, не было бы и пальца. Это общее достижение политеизма, монотеизма, да даже и материализма. Без идей невозможно, невозможно ничего мыслить. Одну точку поставил в этой тьме — и уже знаешь, что такое это точка. Будь ты монотеист, будь ты Ленин — никуда не денешься. Если я сказал что-нибудь, так значит, что я отличил это от прочего. Я должен сказать тогда, а что это? чем отличается? какими свойствами? — Таким образом, я определяю идею. Если нет — то вещь непознаваема, мир непознаваем.
Но в иудействе мир сотворен по воле Бога (а у греков вечен). Бог сотворил мир “по своему глубочайшему усмотрению”. Он знал, что от него потом могут отпасть, что будет зло, что мир будет в грехе, и он будет его спасать, знал все это и все равно создал мир...
Невозможно оторвать относительное от абсолютного. В самом деле — туча летит. Почему? Родился человек — почему? Это абсолютно, абсолютное веление судьбы. Почему? Неизвестно почему.
Поэтому звездное небо — оно-то абсолютно, но — почему оно так разрисовано? Почему Ursus, Большая, Малая медведица — почему? Неизвестно почему.
Раз навсегда дано — но почему так, а не иначе? Неизвестно. Родился ребенок. Почему? Что родители в браке — не объяснение, сами родители родились в браке. Рождение ребенка, человек — нечто абсолютное, все-таки он есть — но он абсолют. Они (древние) считали бытие абсолютом, а с другой стороны, события на небе (по своей пестроте) претендуют на самостоятельность. (Все необъяснимо пестро), но все вместе взятое по своей неотменимости абсолютно. Ребенок рождается случайно, один родитель хотел его, другой нет, и тем не менее рождение ребенка есть нечто абсолютное. Гегель отчасти это понимал, но не всегда. Бытие предполагает, что есть небытие. Хорошо... Но почему? Почему? Бытие есть нечто. Значит есть ничто? Почему? Поэтому при железной, при стальной логике — все пронизано относительностью. Вот цвета. Соединение цветов дает красоту — почему? Почему один цвет с другим соединяется, а с другим не соединяется?
Так же физиогномика. Скажем, пьяный дурак дерется и бьет смирного человека, который сидит себе в углу про себя. Что один пьяный и неразумный, а тот разумный и тихий — это необъяснимо. Почему он разумный? Потому что его так воспитали, и он такой тихий, скромный. Но почему его сосед буйный дурак, а он разумный и скромный? Здесь никаких объяснений не хватит, это m o i r a , судьба, необходимость.
Это меня поражало. И так я прожил свою жизнь и не смог и не могу понять. И так и знаю точно — не могу понять. В конце концов все приходит к вопросу о добре и зле. Бог творец, всемогущий — а здесь что творится? Разве не может он одним движением мизинца устранить все это безобразие? Может. Почему не хочет? Тайна... Отпали ангелы. Дьявол, отпавший ангел — все признает, кроме абсолютного бытия Бога. Неужели Бог не мог бы привести его в такое состояние, чтобы он не делал зла? Ха-ха! А почему Бог этого не делает? Тайна.
А верующий тот, кто эту тайну прозрел. Другие — дескать, э, никакого Бога нету. Это рационализм, и дурачество... А вера начинается тогда, когда Бог — распят. Бог — распят! Когда начинаешь это пытаться понимать, видишь: это тайна. И древние и новые, конечно, эту тайну знали. Аристотель наивно: в одном месте “Метафизики” говорит так, в другом иначе. И там, и здесь все правильно. Но если ты скажешь: как же это так, там у вас абсолютный ум, перводвигатель, который всем управляет, а тут черт знает что творится? Как клоп, будет убегать от пальца. А был бы верующий, сказал бы: это — тайна. Поэтому я не хотел делать абсолюта из “Метафизики”. Они же знают и зло! Так неужели им не приходит в голову спросить, что творится: вечный перводвигатель, и с другой стороны — это безобразие? Как же так? Вот если бы они этот вопрос задали и сказали: это тайна, тогда они бы стали верующими.
Говорят: крестись, твоя болезнь пройдет. Вздор! Наоборот, тот, кто крестится, рискует попасть в большее зло. Это объединение добра и зла необъяснимо — честный, хороший вдруг в неприятном, в безвыходном положении. Его даже убить могут, прекрасного, лучшего. Так — что же Бог-то думает? Тайна. Это — тайна. И когда человек эту тайну уразумел, ему уже не нужно “вот ты крестик повесь, маслица помажь”... Может быть, может быть, конечно, есть таинства, которые облегчают положение. Но если — миропомазание, и человек заболел и умер? Я не удивлюсь — значит так и должно быть. Значит, это Божья воля такая.
А так, без веры — вульгарный оптимизм и рационализм. Конечно, помолишься — утешишься, болезнь пройдет. А если нет, если болезнь хуже, если ты помрешь — то да будет воля Твоя! Тайна неисследимая и невыразимая!
Вот поэтому, излагая нудную, скучную метафизику, претендующую на абсолютность (крепкое, божественное устройство мира) - я считаю, что тут же заложена и вся относительность. Небо, конечно, движется на века. Этот бог, по крайней мере нижний, но даже этот бог движется всем движением небесного свода. — Но если в одну секунду окажется, что этого свода нету, какой-то один момент, и весь этот небесный свод выпал, взорвался, поломался, исчез — я не удивлюсь. Потому что я верующий. А если бы я был язычник — то да, конечно, сказал бы я, здесь у нас на земле хаос, но зато неподвижные звезды все движутся постоянно, вечно, неизменно и т. д. С христианской точки зрения это относительно, но язычество — это абсолютизация всего мира. Ну что ж, пусть Платон и Аристотель верят, что это устройство нерушимо — пусть верят. Но если вдруг случится катастрофа, то они не знают, куда деваться — но я скажу: свершилась тайна Божия; так должно быть.
Так вот я, изложивши абсолютную эстетику, подвожу итог, что там вечная красота, сияние, порядок, — все это у меня точно изложено, не знаю, при тебе или без тебя. Но эстетика неба — абсолютная. Но если лопнет звезда, если эта эстетика лопнет — я не удивлюсь.
Так же цвета. Возьми простой букет. Ты говоришь: ах, красота. А другой человек, ему не нравится, он говорит, надо иначе расположить. А ведь это пустяки, вещь, которая вянет, цена ей три копейки. — Так же внутреннее и внешнее физиогномики. Есть ведь внутреннее и внешнее, как знать о внутреннем, если не по внешнему? Откуда о человеке знать, как не по жестам, мимике, словам, строению тела? Но сам Аристотель говорит (я нашел одно место) — во “Второй аналитике” Аристотель сам сказал, что это логика не силлогистическая и не математическая, и не аподиктическая — а это логика, как он сам говорит, это логика... это логика риторическая. Это я не написал, но надо было бы написать. Что эстетика неба у Аристотеля — риторическая. Тут все, и абсолютное, и относительное, и понятность, и непонятность. Эстетика неба — риторическая.
Я, например, человек верующий, но я не могу расстреливать неверующих. Я даже уважаю некоторых атеистов. Есть, конечно, атеисты преступного типа. Если им дать власть, установят чистенькую площадку такую, уничтожат всю веру. (У Платона с атеистом так:) Ты с ним поговори, убеди его — а если после этого он скажет, что не верит, ты его казни. Я же прошел всю жизнь, не беря на себя такой грех, и надеюсь умереть тоже не убивая. Вера начинается с того момента, когда ты знаешь, что Бог добр, Бог есть абсолютная любовь, и мир лежит во зле. А до сих пор — ты неверующий. В крайнем случае — ищущий. Но искание вещь неопределенная. Можно искать, искать и найти филькину грамоту. Человек не знает, откуда он, куда он, почему болеет, терпит удачу или неудачу. Так действительно все мы куклы. Знаем мы много, но можем поступить без всякого разума, и неправильно поступаем. Незнание причин.
Ревность. У Флоренского целая глава о ревности, где он доказывает, что это высокое чувство. В быту все это извращено, но ревновать о вере — значит ты заинтересован, за это готов сражаться, ты ревнуешь.
Энгельс говорил: революция отняла у французов все, отняла спокойную жизнь, теплое и уверенное самочувствие, веру в Бога, свободу действия и движения, отняла детское и наивное мироощущение, и что же она им дала взамен? Свободу торговли. Реакцией на это был романтизм, который всю мелочь торговли и суеты выкинул и ударился в потустороннее. И Энгельс: романтизм был нужен. Эти 50 лет люди не могли удовлетвориться, что они имеют право свободно торговать. Хотелось другого.
Наивность, простота, детскость пропадают после революции — начинается будоражение, опасность, каждому надо бороться за свое существование, требуются усилия, чтобы самое простое, нужное для жизни удержать, — поэтому якобинство необходимое следствие революции, как и сталинисты. На гильотине казнили, но ты знаешь, какие были безобразия? Из Собора Парижской Богоматери взяли чашу, из которой все причащались, и заставляли всех ходить и гадить, и чаша скрывалась. Это — чтобы удержать человека в состоянии всегдашней тревоги. Хочешь хлеба купить в булочной? Нет, нельзя... Становись в очередь... А несколько лет было так, что и хлеба нет, а только вши. Хорошо, что НЭП начался, а то помирали.
Революция — ужасная мистерия жизни. Человек теряет наивность. Якобинство неизбежно для сохранения нового порядка — а потом начинается реставрация... Я читал “Социальные неврозы”, французскую книгу, в молодости. Может быть, она где-то есть. Так этот автор рассматривает все войны, революции, переселение как социальные неврозы. Робеспьер — это социальная истерия, и Сталин тоже. Вдруг становится нельзя жить свободно и спокойно. Куда-то надо ехать, что-то покупать, что-то делать, спокойно нельзя... А раньше — жили свободно и спокойно, в меру своего достатка. А тут — ни к кому нельзя обратиться, ничего попросить, остервенение возрастает с каждым днем. Ты не читал Тэна, “Origine de la France contemporaine”? Богатые ссылки, он же ученый-историк. Перед революцией — Ancien regime. Потом — революция. Боже мой, что он там изображает! Это ужас. Прочти. Якобинство, как Наполеон пришел к власти. А ты — почему! Почему истерик дает по морде? А кто его знает? Истерия штука очень загадочная. Возникают реакции совершенно несообразные. Какое-нибудь маленькое событие — и он уже реагирует до драки... Потом расстреливается...
Когда мне не спится, я перевожу с русского на латинский и греческий. Что придется. Стихи, молитвы, разговоры...
Газовщик выключил газ, потому что не было бумажки... И заметь, вся революция делается по бумажкам. В 19-20 я был в Нижнем Новгороде. Так ты знаешь, сколько нужно было документов! Десятки документов! Еду в поезде, идет проверочная бригада. Мой сосед вынимает целую колоду бумаг. Смотрят, возвращают: “Тут ничего нет”. Тогда из другого кармана вынимает еще пачку документов. Тот проверяющий плюнул и ушел. Справка от домоуправления, на тифозность, справка на съестное, без нее отбирали картошку. Меня Бог спасал — как-то я ездил в Нижний и не заразился тифом. Правда, мне давали на шею, на тело мешочек, умерщвлять вшей. Это ли помогло, не знаю — но остался жив, хотя воспаление легких было в двадцатом году.
У меня такое впечатление, что все — по бумажкам. А после 24-го съезда и вообще дохнуть нельзя. Не знаю, доживешь ли ты до нормального человеческого общежития. Я-то не доживу. Да и не уверен, что ты доживешь.
Гитлер говорил: “Русский народ потому держит у себя советскую власть, что он не имеет никаких потребностей”.
Раб был раб главное по сознанию. Он не мыслит себе иного положения. Поэтому он механическое орудие. Не личность. Хотя мы, старые преподаватели, из кожи лезем вон, доказывая, что рабы были личность — но раб не ощущал себя как личность, и он даже потребностей не имеет. Граф Кайзерлинг, путешествовавший по всему миру, написал книгу, “Tadebuch eines Philosophen”. Он говорит там, как в Японии молодая девица поступает в публичный дом, делает там накопления, потом выходит замуж. “После этого я понял, что на Востоке нет чувства личности”. Ее личность не задета. Это потому, что никакого чувства личности просто нет вообще. Японцы лезут в бой, чтобы погибнуть. На самолетах, которые не имеют бензина, чтобы вернуться обратно. Ему не важно, будет ли он жить. Чувства личности нет. И Кайзерлинг пишет: “Когда я наконец вернувшись домой вошел к себе в кабинет и заиграл фугу Баха, я почувствовал, что я европеец, что у меня есть чувство личности и у меня есть логика”. Муэдзин — может петь и поет вечно, нескончаемо. Это природное явление, а не историческое. Вся эта музыка — вне истории. Бетховен, Бах — это логика, эта музыка имеет начало, развитие, конец. А восточные песни — без начала и без конца.
Россия, конечно, немножко приобщилась к Западу, но безличного, бездушного, безыдейного, каменного здесь очень много. Рабства много. Попробуй, посмотри американца, англичанина, идущего по Арбату — грудь колесом, видно, что не подхалимствовал, не кланялся. Это все несравнимо с русским болотом. Вот Пушкин и говорил: дернул же чорт меня родиться с душой и талантом в России.
Брехня, что душу не знаете! А что, у вас душа в пятки не уходила? Душа у вас не радуется? Будто это китайское, а не индоевропейское слово. “Душевный человек”, “он душевный человек”. Что же, не знаете, что это такое?
Люди знают, что такое душа, но делают вид, что души нету. И даже в учебниках запрещено слово “душа”.
Или, может быть, ты не знаешь, что такое Бог? Прекрасно знаешь. Безбожники, думаешь, не знают, что такое Бог? Прекрасно знают. А кого же они отвергают? Если я скажу, как говорит Щерба, “глокая кудра”. [Так! — В. Б. ] Что такое глокая кудра? Ты же должен определить, что это такое. Ты знаешь этот его пример — что можно опознать часть речи, не понимая предложения. Если ты не знаешь, что такое душа, — ты врешь. Если не знаешь, что такое Бог, — ты врешь. Почитай Канта. “Бог есть принцип единства мировой истории”. Ты, может быть, и мир не знаешь что такое? Ведь если ты не знаешь, что такое душа, ты не знаешь и что такое мир! Солнце не мир, а часть; луна не мир, а часть; земля не мир, а часть мира; человек часть мира. Все знают и употребляют это слово, мир, но определить не могут и остаются на почве интуиции.
Может быть, ты не знаешь, что такое бессмертие души? Врешь. Уже самое предложение “я умру” показывает, что “я” и “смерть” разные вещи. Точно так же я могу сказать, что я не знаю, что такое материя. Лампа — входит в материальный мир, но она не есть материя. А мои ботинки? Они материальны, но не есть сама материя. А что такое материя? Все как-то знают. Только идеалисты это знают точнее. У материалистов материя — это нечто волшебное. Идеалисты смотрят на нее более позитивно.
Так что все эти понятия прекрасно известны до всякого определения. Интуитивно понятно, как естественно больно, когда палец разрежешь. Словом, брехня сплошная: не знают, что такое душа... А если я ему скажу, что он бездушное существо, он обидится. Да ведь и обижаться же нечего! Ведь если я скажу, что ты круглый квадрат, на что тут обижаться? А “бездушный”, “бессовестный” — ты обидишься. Совесть, правда, еще как-то признается. “Простите”. Всякий материализм хватается за совесть, за сознательность. А определить совесть как? Трудно определить.
Ты обидишься на “бездушного”. Чего тебе обижаться, раз это все ничего не значит? Нет, мы ценим и знаем, что такое душа. И нам обидно. Почему? Потому что это великие понятия, которые мы интуитивно очень высоко ставим. Бездушный — все равно что дурак. Знаете, что это такое, дурак? Так и знаете, что такое бездушный. Так и знаете, что такое душа.
Я обижаюсь, когда мне говорят, что я бессовестный, потому что совесть для меня очень важная вещь. Я могу грешить против совести — но сказать, что совести нет, что души нет, что мира нет — это глупость, которая, как мне кажется, везде в Европе изживается, и только царствует в Советском Союзе. Бог, душа — эти слова у нас нельзя употреблять. Разве еще совесть как-то можно. Мир — тоже. Но определить не могут. Для этого надо думать, быть философски подкованным человеком.
Если он не понимает, что такое Бог, потому что безрассудные родители не употребляли слово “Бог”, то он несчастный человек. Казуистика такая: станет взрослый — сам решит, что такое Бог. Это чистейшая казуистика. Если ты в детстве не узнал, что такое красный цвет, то и в 18 лет не узнаешь.
“Дети не понимают слова “Боже””... Вранье. Играют же дети в королей, принцев, “я принцесса”, “я слуга, паж”, которых они никогда не видели. Так почему же они слова “Бог” не понимают, когда им говорят, что Бог накажет? Не бери чужого, а то Бог накажет. Конечно, поймет. Иначе — вырастет таким идиотом! Мало ли идиотов. Есть, конечно, и религиозный идиотизм. Что-то не разъяснили вовремя. Но не в этом же дело. Ну, не знает чего-то человек. Я не знаю интегрального исчисления. Это, во-первых, не значит, что нет никакого интегрального исчисления. А во-вторых, я все равно ведь знаю, что такое 1/1000000 часть.
С меня довольно этой борьбы. В свое время я и ездил, и говорил, и боролся, и ездил в центр, и в провинцию, и добился только того, что сам остался цел, и напечатали довольно много. Но сдвинуть с места эту махину мне не удается... Все-таки мои задушевные идеи не находят хода. — Мракобесы. Этот термин так гулял в 20-х годах, что носу сунуть нельзя было. — Не знаю, может быть теперешние кусачие выпады тоже ведут к высылке...
Барокко и импрессионизм: там взрыв, тут прострация. Там, если ты встречал, есть зарисовки рук апостолов, сидящих около Христа, и получается — симметрия. Хотя и там разница. У Шекспира — навалены груды трупов. У Корнеля была охота и был вкус преподнести все в складном виде. А Шекспир — буйное... Пинский разобрался ли во всем этом у Шекспира? А мы бы, если бы нам ничего не мешало, — разобрались бы... И много было бы интересного.
Такой чудовищной, буйной глубины, как у Шекспира, нет больше ни у кого. Разве Достоевский... Но у него мелкие герои, мещане, — хотя они на Бога набрасываются. А у Шекспира — мощные, великие фигуры. Тут нет сравнения. Идеологически, конечно, можно сравнивать; но то, что за чаем идут разговорчики о Боге, или коньячок дует и тут же — “тебе стыдно за мир”, — у Шекспира такого нет. У него богатыри. У Достоевского те же вопросы, но Димитрии, Иваны его — это мелочь. У Шекспира мало рассуждений, но выговаривает такие вещи... “Нет в мире виноватых”, — ляпнул такое. Где? Не знаю.
Года 2—3 назад я слушал по радио — юбилей Шекспира, и один выступающий говорит: “Очень жаль одного, что Шекспир не написал ни одной религиозной драмы”. А дело было в том, что Елизавета твердо запретила всякие вероисповедные столкновения. Все вымела. И Шекспир должен был изображать глубины человеческого Я, но ни одной религиозной глубины — не изобразил. Очень жаль. Такой глубокий гений — при религиозном характере еще выше был бы. А Елизавета механически запретила разговоры на религиозные темы. Как у нас. Федор Степун, я его слушал, философ, но и оратор такого драматического таланта. В 22-м году был выслан с другими за границу.
В сравнении с шекспировскими Каин Байрона — мелкотный характер. Это уже романтизм. Его бунт против Бога от мелочности. Вообще вопросы Богу ставит наша душонка. “Я-де вот сердцем верю, а разум — нет”. Значит, ошибка разума. У меня было все наоборот, с гимназических лет. На чем религия держалась — только разум. А то, что возражает, топорщится — это сердечко, это душонка паршивая; у нее разные неприятности, ее туда-сюда швыряют, вот она и не верит, шатается. Я тебе откровенно скажу: я религиозный человек с малых лет, и всегда на разуме. А душонка все время пищит, противится. Не понимаю этого, когда говорят: сердцем верю, а разум возражает. Как? Да простой Кант, который не так глубок в религии и такой мелкопоместный протестант, и то: “Бог — единство мировой истории; Бог есть принцип судьбы мировой истории”. Разум не может этого не видеть. А вот когда душонка пищит: есть нечего, со службы прогнали, потолок провалился, — то мелкая пищащая душонка начинает сомневаться. По-моему, это ничтожнейшее рассуждение, сомнение в Боге из-за житейских неурядиц, на которое не стоит тратить времени.
Здесь раздор неизбежен. Степун формулирует как закон: “Невозможность оформить религиозное сознание”. Всякое религиозное сознание обязательно трагично. Разум видит торжество Бога-творца. А когда глядишь на мир — это паршивый мир.
Ты не знаешь отца Всеволода Шпиллера? Священник, из обрусевших немцев, лет 70, что я считаю очень важным. Потому что молодые очень неопытны. Очень образованный человек, настоятель храма где-то в центре, за Красной Площадью. Как я себе представляю, это есть священник и духовное лицо специально для интеллигенции. — Конечно, все таинства и обряды совершаются Богом, а не священником. “Аз, недостойный иерей, властью, данной мне от Бога...” Образованность не имеет значения, священник— лишь свидетель. Интеллигентное мне всегда плохо импонировало, мне всегда было ближе монастырское старчество, хотя даже многие монахи его не любили. Но, конечно, сейчас этого ничего нет. А ведь была древнейшая традиция, старчества, от Паламы и исихазма.
Отец Всеволод Шпиллер, очень образованный, очень духовный. Это сейчас в Москве — духовный отец всей интеллигенции. Он, между прочим, родной брат певицы, сопрано в Большом театре, тоже Шпиллер. Они, по-видимому, из интеллигентной семьи. Я знаю, что отец Шпиллер многих крестил, — и я думаю, и не как интеллигент, и не как простой батюшка, но — как надо теперь делать. — Но я не думаю с ним знакомиться.
Он мирный, очень далек от политики, занят богослужением и своими духовными детьми. Он не интересен ни ГПУ, ни Московской патриархии. Возится со своими духовными. Только я уж махнул рукой. Все это мне очень интересно, но раз не посылается мне наставник — то уж значит надо так. Это дело духовное. Я, конечно, сам в этой литературе много читал и знаю не меньше их. Но, конечно, сколько бы ни читал, нужен наставник. Но я сам не ищу. Если будет мне послан — другое дело, как был мне послан 40 лет назад... 35 лет назад. Может быть, после моей смерти понадобится.
Семинарист на экзамене, вопрос о чуде. Епископ присутствует, в комиссии. Задает семинаристу вопрос: звонарь с колокольни упал и остался жив — это чудо? — Счастье, ваше преосвященство. — А если второй раз? — Случайность! — А если десять дней подряд? — Привычка!
Я знал афонских монахов, которые проповедовали исихию и обучали меня. Но я ведь пошел по части науки. А иначе надо было все оставить. Добиваться сердечной теплоты путем сведения ума в сердце — это многолетняя практика.
Что-то подобное, кажется, было в Индии. Только там другое содержание. Здесь — Иисусова молитва, повторяемая бесконечно, тысячи раз. Сначала вслух, потом замирают слова. Потом — они в этом океане божественного света, ничего не видят и не слышат. Но это монастырь, совершенно особая жизнь. А тут, в ученой жизни, — библиотека, суп на обед... Тут остается только приход, посещение церкви, путь светского христианства, тем более оно тоже благословлено. Христос благословил употребление вина. Светскость допускается церковью в очень сильной мере. Только надо, конечно, помнить Иисуса Христа, и заповеди — не воруй, не прелюбы сотвори... Более моральное, чем мистическое христианство. А в исихии исполняется завет: “Непрестанно молитесь, о всем благодарите, сия бо есть воля Божия о вас...”
Август 72-го
Учение о зависти богов. Бог боится, что человек займет его положение? Что за вздор! — Поэтому я могу говорить христианам, которые со мной: “Как — Бог творец всего и зло в мире?” — пока задается такой вопрос, человек не христианин. Нет: весь мир акт божественной любви — когда ты так видишь, с этого момента ты христианин. Кто-то скажет: как же так, у человека ногу ампутировали, а тут Бог? На это нельзя ничего ответить — ведь человек не верует. Как слепому бесполезно говорить о цветах. И пока не коснулась благодать свыше, человек ничего не поймет. В глубине души должно что-то сказать: такова воля Божия.
Воскресенье, Крещенье. О том, как “в моем родном городе ходили крестным ходом к воде”. У каждого свое. Испанцы умеют любить, играть на гитаре, убивать из-за угла... А не немцы.
— А русские?
Водка и селедка. Русские умеют водку пить. Раньше, когда я был молодой, я распространялся о русской душе, славянофильские идеи у меня были, Москва — третий Рим, “а четвертому не быти”. А потом с течением времени я во всем этом разочаровался... И меняться уже стар... Нации уже нет... Теперь уже международная судьба...
— Как римляне?
Хуже, хуже, хуже... Римляне оставили вплоть до нас, до 20 века, римское право, институты, дороги, языки, много. А русские не знаю что оставили. — Это была долгая история, я столько уже мучился и столько слез пролил, что теперь не хочется говорить... Это как разведенная жена, остается только горечь и ненависть... Мне даже противно об этом говорить, даже с тобой, хотя ты мне и близок. Все это ерунда, на постном масле. Что сделается, то и сделается, а думать об этом... Потому все инакомыслящие и правомыслящие мне все равно.
— А церковь?
Моя церковь внутрь ушла. Я свое дело сделал, делайте свое дело, кто помоложе. Я вынес весь сталинизм, с первой секунды и до последней на своих плечах. Каждую лекцию начинал и кончал цитатами о Сталине. Участвовал в кружках, общественником был, агитировал... Все за Марра — и я за Марра... А потом осуждал марризм, а то не останешься профессором. Конечно, с точки зрения мировой истории — что такое профессор, но я думал, что если в концлагерь, то я буду еще меньше иметь... А сейчас — мне все равно. Нация доносчиков, будьте доносчиками или нет — мне все равно. Вынес весь сталинизм, как представитель гуманитарных наук. Это не то что физики или математики, которые цинично поплевывали. — Аверинцев — не знаю... Ничего не знаю и знать не хочу, кто он... Я тоже с этого начинал, что он сейчас говорит и пишет, меня бы за меньшее выгнали. Не хочу ни о ком ничего знать.
— Вы надо мной смеетесь! Мне тогда тоже с вами отчаиваться? Нет... И у меня не отчаяние, а — отшельничество... Как Серафим Саровский, который несколько лет не ходил в церковь. Все знают, что Лосев не участвует в общественной жизни. Раньше было другое, но теперь наступило отрезвление.
— Простите, что я у вас время отнимаю... Хм... Да ведь разговор интересный...
— Вы как будто замкнулись.
Давно замкнулся. Потому что я когда-то выступил, а навстречу только клевета, использование моих мыслей. Делали на мне карьеру, многие. Сколько меня не пускали в академию. — Существо теорий у меня с Аверинцевым близкое, но в смысле общественно-политической деятельности он Шаляпин, а я — преподаватель греческого языка.
— А как же соборность? Ведь есть же Церковь? А мне теперь все равно. Как там сами хотите.
Шаляпин всех забивал. Хотя Петров прекрасно выполнял все шаляпинские роли, — прекрасный, мягкий, сильный, проникновенный голос. У него отнялась нога, ну, наверное, на нервной почве. Он дал обет, петь по пятницам стихиры в храме Христа Спасителя. “Разбойника благоразумного о единем часе раеви сподобил еси, сподоби и мене, грешнаго, раеви и спаси!” Когда он пел, в церкви была масса народу; когда он кончал петь, все уходили. Митрополит Макарий заметил, что приходят в церковь не молиться, а слушать актера. В газетах было объявлено: “По приказанию Его Преосвященства Митрополита Макария запрещается петь Петрову стихиру в четверг”. Что тут началось в газетах! Стали костить всех, тогда ведь критикуй хоть кого угодно (кроме Императора: Николая II и императрицу Александру Федоровну нельзя было хулить), поднялся шум, вопль и все атеисты даже восстали. Петров все же нашелся — продолжал петь в маленькой церкви, но не в храме Христа Спасителя. Так он до смерти пел по обещанию, которое он дал Богу за исцеление ноги. Но этот пел прилично, не актерски, — я слышал. Пел не театрально, благоговейно. “Днесь будеши со Мною в рай!” Митрополит видит, что в храме накрашенные и надушенные дамочки, как в театре, — иначе митрополит бы и не заметил ничего.
Июнь 73-го?
Знаешь, из всех церковных догматов как-то менее популярен, а для меня самый близкий: “Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века”. Я не могу себе представить человека без тела, если это тело умирает, значит оно несовершенно. И древние догадывались о каком-то другом теле: огонь, эфир... Это тело бога; у меня есть идея написать о таком теле. Уже в Stoicheiosis`е я писал о разнотипности телесного. Тут очень много неоплатоники сделали... Стоики тоже, первые учителя эманации. Из огня, эфирного — космос, в человеке уже его затухание, он остается только в теплом дыхании; а ниже человека уже и этого нет. Это и к Плотину перешло; только он не материалистичен, у него все происходит как становление ума, который при этом густеет в тело.
Жить мало... Идей у меня столько!..
— А написать в ненаучной форме?
Могу; но времени нет! Аза еще не собралась на дачу; утром я был на экзамене; потом редактирование, Секста Эмпирика; потом еще редактирование. Так что не до афоризмов. Ломовые лошади афоризмов не пишут, вот тебе афоризм: “Ломовые лошади живут без афоризмов”, вот тебе, запиши первый афоризм.
Ирмос, Великий Четверг. “Тебе утреннюю, милосердия ради истощившемуся непреложно, и страстей бесстрастно преклоньшемуся, Слове Божий, мир подаждь ми падшему”. Надо, чтобы страсть прошла так, как будто ты ничего и не переживал (Серафим Саровский и разбойники). Для мысли и разума это ясно, а для душонки—она возмущается, как же, меня обидели? Но для разума — тебя обидели, а ты сделай так, чтобы даже и не заметить этого.
“Джоконда”... Тоже подозрительный портрет. Во-первых, явно блудливый взгляд, не улыбка, а как-то ощеривается, что-то страшное в этом есть, и на первом плане блуд, что-то блудливое, зовущее к наслаждению первого мужчину. И никакой духовности. Мещанину кажется, что загадочно. А главное, никакой таинственности нет. — Вот где настоящее Возрождение. Он понял, что многое может создать, — а если от Бога отказался, то можно многое создать, — и вот он извращенно сочетает разные вещи. В Монне Лизе, хотя и поприличнее, внутренне это смрадно и отвратительно. Когда я рассматривал эти вещи, на меня они произвели отвратительное впечатление. Вот действительно Возрождение настоящее в своем крайнем выражении. — Как Леонардо превознесен, а смотри какой ужас, ведь это не человек, а ведь это гад какой-то! Это, конечно, передовое, но вот какое передовое? Совсем не то, о котором думают обычно. — Как от Бога отказался, так потом дьявольщина началась. Это же дьявольщина все.
Опыт, если его взять в чистом виде, он же страшный. Теперь — опыт упорядоченный. А возьми опыт в чистом виде — это же будет ад... антихристианство. — Я думаю, что Бога здесь [у Леонардо, в Возрождении ] нет. Или — неимоверный дуализм, что Бог одно, а мир, все эти чудовища и змеи — другое. Я думаю, Бога он не признает, католического и православного Бога он не хочет, хотя старый Бог допускал и зло и даже распятие Богочеловека. Но теперь мало этого, тогда надо Бога, который допускает все зло.
Природа выпячена в Возрождении. Возрождение не структурно отличается от неоплатонизма, а аффективно. Всякий праведник тоже чувствует природу. В V томе Добротолюбия: “Женская красота есть наивысшее творение Божие”. А в Возрождении — и страдания тут, и радость; какой-нибудь горный хребет снежный у него слезы вызывает, он захлебывается, бьет себя в грудь... Отличие — в эмоциональном, аффективном и гуманистическом наполнении. Разница в драматизме. [Возрождение] это драматическая апперцепция, драматическая переработка ареопагитского неоплатонизма.
Фома, сравнивая живой догмат с аристотелевским и платоновским понятийным хламом... Почему многие праведники и не писали. Писать — это размышлять разумом, рассудком, поэтому некоторые строгие игумены у нас даже запрещали читать. На Западе — другое. Доминиканцы, например, это сплошь ученые. Это научное общество, почти, в противоположность францисканцам. — А у нас эта потребность слаба. Я знал одного монаха, гостинника. Я туда приезжал, потому что мне очень нравилось богослужение в этом монастыре. Отец Ермолай. У него была книжечка “О любви”: “Иногда разверну, прочитаю, с меня и довольно”. Есть, конечно, и такие, которые взяли своим послушанием науку, как Феофан (Затворник). Но у нас это не так развито, просто из-за недостатка культуры. У нас хочешь нищенствовать — ходи в изодранных штанах. А хочешь нищенствовать с доминиканцами — пиши книги, в Ватиканской библиотеке, и будут считать монахом. У нас впрочем тоже, Нил Сорский — и Волоцкой. Тот преподобный — и этот. Тот молитвами заслужил, а этот организацией. Началась борьба между ними. Нил Сорский ушел, пришлось. А то могут и наложить такому праведнику. “Поди-ка кирпичи носить”. — К Богу могут и разные пути быть. Был монастырь под Москвой. Сначала молитвенник был игумен, потом — такой бойкий, кирпичный завод построил, кирпичи продавал... И то и другое ведет к Богу, только бы быть с Богом, а пути бесконечные ко спасению.
Неоплатоники тоже учили о буйстве. Павел: “Буее ведет к спасению”. Тот, кто умом буйствует. Тут, конечно, на страже стоят все ереси, если дается такая беспредельная воля... Наше хлыстовство, между прочим, — это же дионисизм. Устраивалось радение, выбиралась баба богородица, вокруг нее кружение, волнение, порочное исступление; иногда и без этого. Это же просто дионисизм на христианской почве. А синодальное упорядоченное церковное христианство — спокойно, размеренно. А тут — кружиться вокруг этой бабы, это же вакхический восторг. Их и обследовали, подробно. Сейчас, я думаю, этот дионисизм не по силам советскому гражданину, который заботится больше о пайках, чем о какой-то богородице, где-нибудь в избе, в сибирской деревне.
Христианское смирение не есть ничтожество, это упование на вечное спасение. А не чеховское тщедушное смирение. “Если бы да кабы...”
София в отношении Отца супруга, в отношении Сына — то, что порождено ею, а в отношении Духа — возможность воплощения в результате акта рождения, воплощения всего. Раз Сын, значит, и материнское начало в Боге есть, так считали раньше. — А потом, в порядке боговоплощения, человеческое начало, Мария. — В порядке путаницы под Софией понимают и ангела, и деву Марию, и космос, и Церковь. Все эти понятия связаны с женским началом, но недифференцированным. Как Отцы Церкви на I соборе дифференцировали с поразительным единодушием. Там собрались отцы, более 300 человек, которые сказали, что это не может быть. И София сидела в сердцах совершенно непоколебимо, но совершенно недифференцированно. И Дух считался сотворенным, до 382 года, до II Вселенского собора.
На Троицын день три молитвы: первая молитва Отцу, вторая и третья — Сыну. Следовательно, это составлялось тогда, когда Дух понимали еще эманативно. Праздник Троицы такой торжественный, церковь украшена цветами... а молитва восходит к тем временам.
Додумаю так. Когда Ничто станет Богом в имманентном смысле, т. е. наполнится божественными энергиями весь [космос], тогда исполнится желание Бога создать человека, чтобы любовь была во всем. Когда это совершится, то наступит конец всего. Только вот куда ад девать, не знаю. Святые отцы восставали против апокатастасиса. Значит разделение сохранится? — Бессилие стать Богом есть ад, вот что это такое. Такое учение страшное. Оно очень мало разработано. Но святые отцы так учили об аде. И в то же время, Христос — победа над адом, Христос явился, чтобы победить ад. Тоже это мне не очень ясно. В каноне пасхальном “смерти вечное умерщвление” — что-то такое. Весь канон пасхальный построен на идее уничтожения ада. Весь канон построен на этом. Так что если буквально понимать этот канон, — а он составлен (“смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного вечного бытия начало...”) Иоанном Дамаскиным, — (то спасены будут все). Вопрос о Софии, о муках адовых, о спасении нехристиан — все это почти еще не разработано. Тут робко говорилось, что каждый будет спасаться по своей вере... Не знаю... Это qeologoumena , а не qeologia . У Булгакова есть книга “Православие”, составлена здорово, есть точные формулы. Очень удачно. Там о вечном спасении: “Что же касается огромной массы людей, которые жили до Христа, или во времена Христа, и не узнали Его, или вовсе о Нем не знали, то их судьбу мы передаем милосердию Божию”. Так же как китайцы или папуасы? Все эти миллиарды людей — “милосердию Божию”? Тут робкое указание на то, что Бог их помилует. Так что здесь неясно, как и вообще в православии много неразработанных учений. Ну, о Софии доработано почти уже до догмата. Если собрать Церковь, — не здешнюю, конечно, а свободную, — то догмат о Софии будет.
...“Вечерю” Леонардо написал не как икону, а как картину. Он чувствовал, что он сделал ее хорошо, очень хорошо, но не сделал всего что хотел. Потому что христианские струнки в нем все-таки бились. Может быть “Вечерю” кто-нибудь и повесил бы, но лучше в Третьяковке, не в храме. — Возрождение, я тебе скажу, дело неудачное, и не могло удаться. Человек царь природы; и уже считает себя центром мира, еще бы, поднялся на целых 100 километров от земли. А дальше там — еще миллионы световых лет! Глупо радоваться. Поэтому Возрождение такое текучее, все плывет, не на чем остановиться. Отделилась иконография от культа, от религии только сюжет остался. Настоящий правоверный скажет: это же издевательство...
Аморализм растет и беспринципность. Не так было даже еще 10 лет назад.
— Зато поляризация...
Да, это я знаю, знаю, что русская земля на семи праведниках держится.
[Ренессанс. ] Вплоть до Бруно, Чернышевского, через Радищева — это болезнь всей человеческой культуры, 400 лет. Так что твои новые молодые люди — это только отдаленные предшественники того, что, возможно, будет еще только через 100 лет... То, что сейчас, это очень глубокое затемнение...
Есть убежденные евреи христиане. Варфоломей, профессор Духовной Академии . Мы у него занимались семитической филологией. Начали заниматься по моей инициативе — и окончили тоже по моей. Я решил благоразумно это дело оставить, потому что всего не совместить... Я наблюдал его на богослужении в Зосимовой пустыни. С 11 вечера до 7 утра в церкви: полунощница, утреня, литургия. У него были противники, которые говорили о нем разное. Но я видел его в пустом храме, и я видел, как он стоит на амвоне и отвешивает поклоны — 300 поклонов, трехсотницу, или пятисотницу. Еврея, Шик такой, рукополагали во священники. После посвящения Варфоломей сказал ему: только сейчас ты подлинный еврей, когда ты принял православное священство.
Солженицын ведь с юга — там у меня есть знакомые, которые говорят, что он верующий.
Атеизм лучшее доказательство бытия Божия. “У меня нет денег” — значит я знаю, что такое деньги. Иначе суждение бессмысленно. Так же и “нет Бога” — значит знают, что такое Бог.
По поводу имен. Антоний Булатович, иеромонах на Афоне. Подвижник, твердит Иисусову молитву. Это древнее учение, при повторении этой молитвы сотни тысяч раз начинается действие Имени Божия не только в голове, но и в сердце. Синод распорядился полицейским образом. Был послан корабль с военной бригадой. Велели либо подчиняться игумену, либо всем на корабль. Выгоняли пожарной кишкой из келий. У них уже психология мучеников началась. Человек 200. Большинство осталось на месте. Тогда их просто силком взяли. Высадили в Одессе, запретили служить и стали рассеивать по разным сторонам. Булатовича — в Харьков, там жгли имения и укокошили его в 17-м году. Флоренский: “Имя Божие есть сам Бог, но имя Божие не есть ни собственное имя Бога (ни Бог не есть имя)”. И моя “Философия имени”, если сказать искренно, написана под влиянием имяславцев. Они предупреждали, что если Россия перестанет почитать Имя Божие, то погибнет. Из имяславцев Давид архимандрит — и еще несколько, я с ними был знаком. Моя “Философия имени” — я ее еще мальчишкой писал. Гегель, там его много. Гегелевский синтез: бого-человеческое. Хотя у Гегеля сатанизм мысли (логическим путем выводит Христа), но очень четкие категории, безупречное рассуждение. Впервые это ему удалось. Будучи протестантом, он настолько логически обострен, что все догматы христианства выводит логически. — Под всяким таинством лежит бо-гочеловечество.
“Mehr Licht!” — кричал Гете перед смертью. [Внезапно:] Ведь уже четвертая неделя идет поста, крестопоклонная. Такая чудовищная выправка должна быть—1000 поклонов положено, несколько часов чтения канона Андрея Критского в среду на пятой неделе. — А там уже неделя Ваий, вход Господень в Иерусалим, воскресение Лазаря. А там уже Страстная неделя — о Господи, как она продумана, как она прочувствована! Каждый день! — В середине недели память великой грешницы, которой сказали: вот пророк появился! — Да что там, я его окручу! — Но увидев, остолбенела, упала на ноги и стала просить оставления грехов. И это состояние души, которая мгновенно увидела истину и покаялась, — это психология замечательно выражена в 10 стихирах “К Тебе Господи воз-звах”. Это великое произведение мировой литературы, которое мало кто знает. По-моему — мировое произведение литературы, даже литературно и психологически, не то что духовно; о чем если заговоришь, все смеются. Эта духовная глубина мало кому из богословов даже понятна. — Потом четверг, какой четверг! — а вечер, это уже под пятницу, 12 евангелий. И там чудные стихиры, после 8-й песни. Это обычно не хор поет, а трио, чтобы выделить, — “Разбойника благочестивого о едином часе раеви сподобил еси, и мене грешнаго древом крестным помилуй и спаси”. Ни один профессор литургики этого не может объяснить, это только верующая душа может понять. По-моему, вся эта служба на Страстную неделю великое художественное произведение. А как же иначе! Это произведение верующей души, и здесь происходят такие революции души, которые и не снились всем последующим революционерам, — конечно, но это в замечательных художественных образах.
Я в молодости носился с этим, хотел все объяснить, но потом — отучили.
— А теперь?
Ну что теперь? Я — знаю.
— А другие?
Другие? Нет, пусть сами доходят. Русский народ безбожник, что же ему объяснять такие тонкости и глубины? Бисер перед свиньями... Вы сами, молодые, разбирайтесь и доходите сами.
Ты знаешь, какую я вещь прочитал у Климента Александрийского, — треть всех ангелов отпала от Бога! Конечно, этого никто не считал, но, значит, огромное множество! Христианство — это учение о величайшей мировой катастрофе!
Всю жизнь много работал, и вот вышел даже шестой том, Плотин, — а нет радости. Совсем другое нужно, ласки человеческой [в голосе горечь]. В молодости брал темы непопулярные, за которые не брался никто, и так остался мало известен.
— Алексей Федорович, какое в Вашей жизни время и событие было самое счастливое? [Спрашивает В. И. Постовалова. ]
— Ну что за вопрос [быстро вступает А. А. ]. А впрочем, Алексей Федорович сейчас скажет, что самое счастливое время у него было в гимназические годы, ведь правда, Алексей Федорович? [А. Ф. мрачно воротит голову. ] Что же помнится вам, Алексей Федорович, как самое счастливое? Но ведь правда, что гимназическое время? [Снова перебивает А. А. ]
[А. Ф., после выразительной паузы:] Правду сказать нельзя. А если придумывать, что сказать, то получится — брехня [очень выразительно]... Самое сильное счастье знал, когда отстаивал всенощную, длившуюся несколько часов, и еще, такое же счастье, когда слушал Вагнера.
— А. Ф., для чего нужна философия, когда есть религия? [Спрашивает В. И. Постовалова. ]
Религия всеобъемлюща. Философия нужна для ее осмысления.
— Почему вам нравится Вагнер?
Вагнер — первый передал катастрофу западного человека. Катастрофу этой жизни, когда человек по заведенному порядку встает, ест, пьет, спит — последняя бездуховность.
— Не из-за подавленности ли ваши слова о шестом томе? Так ли уж вы уверены, что не рады?
Я написал 350 работ — и что толку? Счастья у меня нет.
— Но если бы вы их не написали? [Все вопросы В. И. Постоваловой. ]
Ну, может быть, было бы хуже.
ИЗ РАССКАЗОВ А. Ф. ЛОСЕВА
За чтением Лосева. Мудрость говорила бы одно и то же во все времена, если бы ей не приходилось интерпретировать единую истину на языках разных веков.
Малосильный греческий язык: просиял — а теперь задворки.
А. Ф. рассказывал о своем учителе, Соболевском, смешно подражая его манере говорить. Соболевский говорил: “Я вам очень рекомендую читать словарь. Вот я был на юге, на пляже, и читал словарь. Очень интересно. Гораздо интереснее, чем читать роман. Гораздо больше неожиданностей”. Конечно, говорит А. Ф., верно, Соболевский прав. Ведь фактический язык чудеса какие штуки выкидывает. Сплошная акробатика. Вот, например, читаешь словарную статью, и что только там не попадется. Иногда непонятно, какой падеж. В грамматике, в парадигмах все, конечно, ясно, но ведь язык ни с какими нормами не считается. Невозможно иногда определить, какой падеж.
По поводу двух переводов “Поэтики” Аристотеля, Новосадского (учителя А. Ф.) и Владимира Аппельрота. А. Ф. говорил, что об Аппельроте осталась очень хорошая память среди лингвистов. Он был болезненный юноша и энтузиастический, преподавал греческий в знаменитой 5-й гимназии, славившейся своим высоким уровнем. Был человек, преданный античности; рассказывали, что его уроки были какой-то восторг. У классиков впечатление очень хорошее осталось. Я его не застал. Я приехал в Москву в 1911 году, поступать в университет.
— Вы семнадцати лет поступили?
Да... Я ведь с 1893 года. Окончил университет, как полагалось, когда мне было 22 года, окончил сразу по двум отделениям, классической филологии и философии. Так с тех пор этими двумя науками и занимаюсь. Язык надо знать греческий и латинский для философии, и философией заниматься надо тем, кто занимается филологией. У меня все время классическая филология с философским уклоном. Но чистую филологию и чистую философию я не люблю. Как-то не увлекался этим. Хотя и по чистой философии пописывал.
У меня эстетика — здесь и философия, и филология вместе объединяются.
Я уверен в том, что все эстетическое и художественное основано на разнородности пространства и времени. Это надо пережить, передумать — а в книге мало.
Само понятие молчания и речи для нашей речи — вполне условно. Речь, предложение — только в школе разбирают. Но все же много логиков и грамматиков, которые заглядывают глубже: видят речь как общую заданность! как общую заряженность! (Решительный жест.) В слове заложено [больше, чем можно фиксировать]. В какой степени? нужен контекст. А контекст — бесконечен. Поэтому предложение может иметь какой угодно вид вплоть до отсутствия подлежащего и сказуемого. Например, “Ты пойдешь гулять?” — “Угу”. Это предложение? Это — предложение, [в нем заложены ] “я”, “пойду”. Надо бы побольше интонационного момента изучать. “Мой брат защитил диссертацию”. — “А-а-а!” (длинно, мелодически). Если этот романс анализировать логически — чего там только нет. Поэтому о молчании и речи нет еще таких ясных выводов.
До Маха, Авенариуса, Гуссерля не дошли. А до среднего бытия — дошли... Теперь понимают, что можно говорить — и никакого отношения к действительности. “Круглый квадрат”. Я сказал что-нибудь? Сказал. А ты понял? Конечно понял. А соответствует это действительности? Нет. Не знаю. “Володя, тут у меня деревянное железо!” Здесь, в том, что я сказал, все есть—кроме объективного факта деревянного железа. Я не наблюдал такого факта.
Когда переводчик переводит, он выходит за пределы языка и переводит речь и дает речь, а сам язык непереводим... В языке можно выделить физиогномические черты. К каждому слову понадобился бы комментарий на 2 страницы.
Имена и идеи только ведь и действуют в жизни, ничего другое не действует.
План выражения... Незнаменательные частицы... “И”: оно может выражать любую семантику. В этом беда математической логики. В языке все декоративно, все конструктивно... Язык не есть логика, язык есть коммуникация. Все и, все или могут нести нагрузки. Пустые, неповоротливые, неэкспрессивные (логические знаки). Такое ограбление языка... Каждое слово имеет свою интонацию; в данном случае ты так понимаешь, а потом — наоборот. — Это вздор. Не верь этим... Это провал структурализма.
Язык ведь бесстыден. Коммуникация... “Ну, я завтра поехал на дачу”. С точки зрения логики — противоречие. Но с точки зрения коммуникации — это указывает на предрешенность, категорическую. “Пошли, пошли отсюда”. Подождите... Еще никто ведь не пошел. Логически — противоречие, а коммуникативно — очень большая выразительность.
Точно так же — “знаменательное”, “незнаменательное”... Ничего в языке служебного нет. Или, наоборот, все служебное. Почему я так говорю? “Ты-то вот умен, а вот Семен — дурак”. “То” — служебное? Нет, напряженная семантика: я подчеркиваю!
….Я свои первые переводы ценю очень низко. Сейчас бы я совсем иначе переводил все это...
У Маяковского многие стихотворения и богатые и яркие, но — хреновые. Говорят только о подхалимстве. Я его люблю за словотворчество. “Французских Луёв...” Это для меня интересно.
….Языки же тоже проходят стадии развития. Стадии магического, мифического. Какую страну ни возьми, везде одинаковые процессы.
Махизм: мне не нужен ни объект, ни субъект. Откуда масса — я не знаю. Объект она? субъект? Не знаю и не могу знать. Я физик — остальное метафизика. Ленин вскрыл здесь субъективный идеализм.
Как у Аристотеля: искусство изображает не то, что есть, а то, что может быть. Специфическая форма сознания. Так в лингвистике многие ощущают — одни сознательно, другие бессознательно, — что в языке и мышлении есть такая иррелевантная область, или как Гуссерль употреблял термин схоластики — интенциональная область. Куда-то сознание направлено, содержательно. Жалко, что структуралисты так неподкованы в философии. Они бы заметили, что здесь есть третья сфера, специфическая, в языке. “Круглый квадрат” — нелепо, но что-то мы здесь понимаем, — хотя бы то, что нелепо. Итак, предмет мысли — объективный? субъективный? Ни то, ни другое. Нелепость? Но нелепость тоже есть нечто. Действительно, в мышлении есть нечто — и не мышление, и не бытие, не субъект и не объект. Не надо ее, эту третью сферу, открывать — надо ее спокойно сформулировать, сказать, что это значит. Тут нечего бояться. Структуралисты это чувствуют и знают, что здесь что-то есть... Только не надо абсолютизировать. И в эстетике эта третья сфера имеет большое значение. Но модернизм, взяв эту идею, настолько ее абсолютизировал... До нелепости. Пикассо нелеп, потому что к нему подходят или объективно, или субъективно. А подойдите с точки зрения третьего бытия...
Лотман — хороший литературовед, и поэтическое чувство у него есть. А теория? Она тоже подходит... но я до сих пор не нашел хорошего изложения знаковой теории. Может быть, надо расширить понимание знака? Все-таки это очень абстрактная область. Ведь знак имеет слишком служебное значение. На знак обращают мало внимания, больше на означаемое. Сам знак остается чисто служебным моментом. Его нужно еще определить. Знак — дело великое, но он имеет определенное место. Для знака многое нужно, но знак сам по себе очень внешнее понятие. Поэтому приходится приписывать ему небывалое значение... Белое полотно не знак, но на войне— знак; предлагают перемирие. Само полотно никакого отношения к миру и войне не имеет. Иначе всякий знак был бы словом.
О смысле: он значит, а не есть. О нем нельзя сказать, есть он или нет (стоики). Предмет высказывания нетелесен. Слово—уже организованная мысль. Слово не просто отражает мысли, объективация не обязательна. Новизна: они (стоики) впервые наметили момент чистой предметности в мысли, иррелевантности.
Все-таки знаковая система должна быть предметной. Знак не только обозначает факт предмета, но и сам предмет. Знак многоструктурен. А они — Лотман берет стихотворение, разлагает на моменты, звучание и так далее, а содержания нету... Лотман... одного не чувствует — что художественное произведение кроме всех знаков, всех структур, всех операций — еще и оно само. Что целое, помимо всех структур, по закону — есть новая структура. Они поэтому говорят о знаках, а не о символах. По-моему же тут символ. Понятие это дискредитировано, его надо воскрешать в новом духе.
Сущность явилась именно как субстанция. Поэтому икона праведника не просто изображение, но несет энергию этого человека. Конечно, не та благодать, но все же. Ее можно вешать в комнате, потому что от иконы благодать излучается, свойственная святому. Субстанциальное тождество. Но несубстанциальное подобие — это в каждом художественном произведении; метафорическое или символическое в пошлом смысле этого слова. Я-то символ понимаю глубже, как тождество — чисто переносное, образовательное, но также и благодатное, не только глазу доступное, но и действовать способное.
Что она — это она. Именитальный — падеж субъекта как носителя бесконечных предикатов. Я бы назвал его casus subiecti, casus substantialis. Там, где ты угадал, что вещь это субстанция и отличная от всех других, ты ее наименовал.
Знаешь, что меня в словообразовании подчинило? Теория Дорошевского. Он мучился: какая логическая основа словообразования? — и пришел к выводу: аффиксы строятся по типу простого предложения. Если я сказу “производство” — как эти аффиксы соотносятся? Как сказуемое, подлежащее, определение и так далее. Поразительная идея! Сразу получается же единство всей языковой структуры. На всех уровнях одна структура. Если логически продумать подлежащее, сказуемое, — то значит будет продумана вся структура языка. Но Р. так логически продумать, конечно, не может. Ни у кого другого такой обобщительной силы логической нет. У Шаумяна великолепные мозги в смысле логической школы. Это единственный человек, который знает, что он говорит.
У меня назревает книга “Проблема символа”, и хочу, пока не подох, свести все воедино, сделать сводку... В греческой литературе — просто срам. Там на протяжении всей истории s u m b a l l w — завещать, договариваться и так далее. Торговля, это все s u m b o l o n . И почти только в самом конце античности, только в неоплатонизме символ начинает обозначать символ чего-то другого. Вывод: поскольку вся Греция была пронизана символизмом, самый термин был как бы не нужен — кроме как в период упадка, когда символ ушел из жизни. Тогда и почувствовалась потребность теоретизировать.
У Аверинцева все прикровенно в противоположность тому, что я говорю, а у меня — опять символ, опять церковь, опять Христос! А ведь я выражал то, что думаю; это настолько ясно и понятно, что всякий согласится: да, без понятия символа нет ни философии, ничего. И это так ясно, что начинают кричать как истерическая женщина. Не терпят этой ясности.
Февраль 1976
Значение есть знак, осуществленный в какой-либо области. Слово sensus имеет разные значения, а не знак разный. Значение в отличие от знака бесконечно разнообразно. В приложении к умственной области sensus будет смысл; если к настроению, то это будет чувство; если к человеку — то это будет настроение. Так что один знак sensus приобретает разные значения, потому что значение не закреплено за знаком, но оно закреплено за теми областями, к которым знак применяется.
Падежи надо было бы назвать иначе; не nominativus, а — субъектный: нечто полагается как субъект. Не родительный — а родовой. Не accusativus, а causalis (a i t i a t i k o n , т. е. ради чего действие?) А “винительный”? Полная бессмыслица. Кто кого винит?
ПРИМЕЧАНИЯ
Еп. Феодор (Поздеевский) вместе с Лосевым был в Бутырках на одних нарах (в одном месте, не слишком официальном), затем на Свирьстрое. (А. Т.-Г.)
Надо: Попов (здесь неточная запись со слуха). (А. Т.-Г.)
Ксения Анатольевна Половцева о смерти А. А. Мейера. Оба были близки с Лосевым. (А. Т.-Г.)
В. И. Мирошенкова, доцент каф. классич. филологии МГУ. (А. Т.-Г.)
Меня попросили отобрать относящееся к религии. Как и прежде, я ничего не меняю в моем беглом, бессвязном конспекте, оставляя развертывание и комментарии для лучших времен.
Епископ Варфоломей (Ремов) (А. Т.-Г.)
Выборка на тему языка, слова, имени. См. А. Ф. Лосев о Флоренском — “Вопросы философии”, № 10, 1992; о религии—“Начала”, № 2, 1993.
С. К. Шаумян — лингвист и логик.
Лосев Алексей Федорович (22 сентября 1893, Новочеркасск, – 24 мая 1988, Москва), советский философ и филолог, профессор, доктор филологических наук. Окончил в 1915 г. историко-филологич. ф-т Московского университета. В 1930-33 гг. необоснованно репрессирован. С 1944 г. профессор МГПИ им. Ленина. В работах 20-х гг. под влиянием Платона, неоплатоников, Гегеля, Шеллинга и Гуссерля стремился построить методами идеалистической диалектики универсальные модели бытия и мышления, а также художественного творчества. В эти же годы исследует античное восприятие мира в его структурной целостности. В дальнейшем Лосев переходит на марксистские позиции… (Философский Энциклопедический словарь, М., 1989).
Алексей Фёдорович Лосев – интервью
– Вся образованная Россия знает Лосева как выдающегося философа и филолога советских лет, автора грандиозных исследований по античности. Однако личная, духовная жизнь Алексея Федоровича до последних лет оставалась загадкой…
– Да, конечно, все, что было связано с его верой – тщательно скрывалось. Умер Алексей Федорович 10 лет назад в день святых Кирилла и Мефодия, 24 мая, в год Тысячелетия Крещения Руси. Только потом стало возможным о чем-то говорить. Например, о том, что он тайно принял монашество.
– Неужели об этом никто не знал?
– Почти никто. Более того, недавно я получила книжечку от одного бывшего студента, слушателя Лосева. И там у него есть глава об Алексее Федоровиче, где автор пишет, что они были потрясены, когда вдруг узнали, что в советское время мог быть философ – философ Лосев. “Какой-то неофициальный философ, который вместе с тем студентам преподавал латинский язык. Который всегда ходил в черной шапочке. Иной раз сидит на ученых заседаниях, и впечатление, как будто он немножко подремывает. А потом вдруг как встанет и начнет говорить что-то очень серьезное. Или сидит Лосев и как-то так руку странно держит, вроде под пиджаком. И всегда он ходил с молодой дамой по фамилии Тахо-Годи. И как она трогательно его водила, потому что он плохо видел. Жалко было смотреть на этого философа, который, оказывается, вынужден был преподавать латынь. Если бы мы тогда знали, кто это был!” А я потом этому бывшему студенту написала ответ: да, правильно, можно было подумать, что Лосев подремывает, но руку он так держал, потому что читал в это время Иисусову молитву и крестился. А читал он ее непрестанно. Бывало, он даже своим секретарям диктует, а сам держит там эту руку.
– Наверное, Лосев тяжело переживал диктатуру атеизма?
– А сами посудите. Он жадно слушал, как его друг, профессор Владимир Николаевич Щелкачев, рассказывал о своей поездке в Болгарию. Щелкачев попал туда как раз на праздник Кирилла и Мефодия и потом с энтузиазмом рассказывал Алексею Федоровичу, как праздновали этот день: как он зашел в болгарский храм и как, говорит, у них там хорошо, ведь там все по-нашему, православный обряд, церковнославянский язык. И Алексей Федорович, знаете, просто чуть не плакал, когда слышал, что где-то возможно вот такое народное празднование святых, что можно так открыто чтить святых, не боясь ничего.
– Но, может быть, живя в СССР, Алексей Федорович все-таки слишком уж осторожничал, опасаясь ходить в церковь?
– Что Вы! Это было ужасно, тяжело. Сейчас народ просто не представляет и не понимает, что тогда было. Мы были зажаты в кулак. Если узнают, что ты, преподаватель, ходил в церковь, то тебя выгонят… А как, между прочим, за университетскими следили, особенно на философском факультете! Какой был скандал уже в хрущевские годы с профессором Павлом Сергеевичем Поповым, философом из МГУ, когда донесли, что видели его в храме (он ведь тоже, верующий, боялся ходить). В свое время, в 1931-м, он был арестован, но его немножко подержали, а потом выпустили, поскольку он был родственник Льва Николаевича Толстого по супруге – а для Толстых, как Вы знаете, правил и норм никаких не было. Вы вспомните особенно хрущевское наступление на Церковь – что Вы! – П.С. Попова тогда ведь заставили отрекаться, говорить, что он никакой не верующий, а он оправдывался, говорил, что ходил в храм якобы ради эстетики, живопись церковную посмотреть. Никто, конечно, этому не верил. Но вместе с тем боялись официально крестить детей. Потому что требовался обязательно паспорт, и могли сообщить на работу. Я сама очень многого тогда не знала, от меня многое скрывалось. Например, я молодая была, меня посылали куда-то кому-то что-то отнести, помочь, какие-то продукты, деньги каким-то старичкам, старушкам. И только потом выяснилось, что это, оказывается, были родственники очень известного священника Михаила Шика (см. о нем “ТД”, №19).
Или вот: приезжала к нам какая-то женщина, жила у нас, на лето якобы квартиру стерегла. Оказывается, это была монахиня, она скрывалась, чтобы не попасться властям. Жила у нас, потому что ей деться некуда, ее нигде нельзя было прописать.
– И Алексею Федоровичу удавалось все это скрывать?
– Да. Никто не знал, даже я многого не знала. Он никогда ничего лишнего не показывал, ничего никому не навязывал, никаких бесед ни с кем не вел. Но люди, которые его очень близко знали, говорили и теперь говорят, что Алексей Федорович был как старец, потому что давал такие советы, что невозможно было не послушаться. Он всегда чувствовал человека. Все, кто с ним близко общался, можно сказать, духовно окормлялись при нем. Но это было не безопасно. Все равно за нами следили. Не раз мне звонили по телефону и спрашивали: “Это что у вас там такое? У вас там семинар какой-то собирается? По каким дням? Можно ли прийти?” Я всегда говорила: “Помилуйте, какой семинар? Лосев занимается с аспирантами греческим и латинским языком…” Никого посторонних нельзя было пускать, только по списку аспирантов. И все равно, знаете, даже тогда, в конце 70-х – начале 80-х на него писали доносы.
– Даже до такого доходило?
– Да, и, между прочим, теперь это стало известно. Причем писал студент. Лосев работал в Педагогическом институте, до своей кончины в должности профессора занимался древними языками с аспирантами, а со студентами только до 66-го года, вел семинары по взаимосвязи античности, зарубежной и русской литератур. Попадались интересные люди на этих семинарах, были и диссиденты, которые сидели в лагерях.
– А в чем обвиняли Лосева авторы доносов?
– Что он идеологически вредно влияет на студентов. Там же парткомовцы всячески его унижали. Это только в последние годы его жизни изменилось отношение, да и то потому, что в администрации произошли изменения.
– Да к чему ж придраться-то можно было? Ведь Алексей Федорович просто преподавал латынь, античную литературу читал…
– Не знаю. Вот видите, люди бывают разные. Один, прослушав лекцию, говорил, что это не простой преподаватель, а за ним что-то скрывается. Другой доносивший, может быть, что-то пронюхал, а, может, просто получил двойку. Тот человек учился, между прочим, плохо, это известно.
– Долгие годы считалось, что было два Лосевых: до ареста в 20-х годах – Лосев-идеалист; начиная с 30-х, после тюрьмы и лагеря – совершенно другой Лосев, уже “на позициях марксизма”…
– Я всегда говорила о том, что Лосев – единый. Это видно из его работ по языкознанию. Ведь ему принадлежит знаменитая книга 1927 года “Философия имени”. Как правильно говорит лингвист Людмила Гоготишвили (она занимается философией языка Булгакова, Флоренского, Лосева), смысл в поздних трудах Лосева остался прежним, зато изменилась ученая терминология – она соответствовала уровню международной науки, а не только советской. Это же были годы 60-е, 70-е. Собственно Алексея Федоровича-то печататься допустили лишь со второй половины 50-х годов. За терминологией у Лосева нужно выискивать истинный смысл. В “Философии имени” он ни разу не упомянул Бога – и на это обращали внимание зарубежные философы. Но они понимали, что тогда нельзя было даже произнести это слово. Тем не менее, читая его книгу, они видели, о каком Абсолюте идет речь. И так же со знаменитой “Историей античной эстетики”. Умный человек четко осознает, что писалась она в 60-е годы, завершалась буквально в конце 80-х. Но и там просматривается самое главное – как язычество постепенно, в течение тысячелетия, стало уходить от грубого восприятия Божества, как оно переходило к представлению о едином Боге и как это сказывалось на всем развитии античности. Это исследование – не просто изучение языческого взгляда на мир и языческой философии, это замечательная история о том, как постепенно древний мир переходил к новой жизни. В последнем-то томе, там как раз говорится о христианских авторах, об александрийском неоплатонизме, об Августине. И всегда Алексей Федорович пишет о том, как важно неоплатоническое Единое, которое не имеет имени, но все держит в своих руках. Лосев довел историю этих античных философов до эпохи христианства.
– А как Алексей Федорович относился к западным конфессиям?
– Лосев был и оставался строго православным человеком. В своей знаменитой книге “Очерки античного символизма и мифологии” он давал философско-богословскую критику католичества. А уж о протестантизме он вообще говорил: “Ну, эти их пасторы – ученые профессора, а не священники, любой может стать: надел галстук, белый воротничок, закончил теологический факультет, научился критике библейских текстов – и ты пастор”. Но ведь не из этого складывается настоящая Церковь. Как философ и богослов Лосев рассматривал знаменитую проблему католического Filioque.
Также в связи с католичеством он писал о примерах безумных экстазов некоторых католических святых. Возьмите хотя бы его “Эстетику Возрождения”. С серьезным опасением он относился к утверждениям о “непогрешимости” Римского папы. Алексей Федорович всегда подчеркивал, что этим католики утверждают не просто “непогрешимость” бытовую, но придают ей значение догматическое, вероучительное – ex cathedra
– что особенно опасно. Ведь, получается, что папа Римский говорит, как наместник Христа на земле.
– Кто, на Ваш взгляд, особенно повлиял на формирование личности Алексея Федоровича?
– Алексей Федорович, будучи старшеклассником, уже читал Платона и Владимира Соловьева. Но дело в том, что самое большое влияние на него оказали семейная традиция, вера и храм. Имя Алексей он получил от деда Алексея Полякова (протоиерея, настоятеля храма Архангела Михаила), который сам крестил своего внука в честь святителя Алексия, митрополита Московского. Потом, до последних дней жизни Алексей Федорович с трепетом и любовью вспоминал гимназический храм, посвященный Кириллу и Мефодию. Если Вы знаете, последнее, что он написал, было “Слово о Кирилле и Мефодии”. Он вспоминает этот храм как самое дорогое, что связано с родиной, Россией. Так что, я думаю, дело не только в Платоне и Соловьеве – просто была заложена глубокая духовная основа, православная.
– Аза Алибековна, арест и последующее заключение, наверное, тяжело повлияли на Алексея Федоровича? Как все же не сломались вера?
– Да, конечно, это было очень трудно. Но посмотрите, был конец 20-х годов: когда разгоняли монастыри, когда закрывали храмы, когда тысячи монахов и монахинь отправлялись в ссылки, когда мало кто мог спокойно умереть в своей постели. Именно в это время Алексей Федорович и Валентина Михайловна принимают тайный монашеский постриг, в самое трудное время – 29-й год. У меня есть маленькая фотография Алексея Федоровича того времени, где он в своей шапочке – очень глубокой, – которая, собственно говоря, является иноческой скуфейкой. В дальнейшем эти шапочки меняли свою форму и считались академическим атрибутом, хотя на самом деле это совсем не так. И Валентина Михайловна хранила у себя такую же бархатную монашескую шапочку. Берегли они и другие знаки иночества. Так что, я думаю, у них была очень крепкая надежная вера, причем у Алексея Федоровича – осмысленная вера, глубочайшим образом обоснованная. И поэтому сбить его никто никогда не мог. Хотя… В письмах Алексея Федоровича, особенно лагерных, есть упоминания о том, как он горько плакал, находясь на Лубянке в одиночестве, но потом, оградив себя молитвой, преодолевал это…
– Принимал ли уже в советское время Алексей Федорович участие в Таинствах: исповедь и причастие?
– Да, но тайно. В церковь он не мог ходить. Он же ослеп. И исповедовался, и причащался тайно на дому. Он не мог открыто выйти. Другое дело, Владимир Николаевич Щелкачев (см. о нем “ТД”, №№20,22),
он всегда открыто ходил в церковь. Но он математик, он сделал великие открытия, применил математику на практике, например, на знаменитых ромашкинских месторождениях в Башкирии. Владимир Николаевич – почетный нефтяник, лауреат Сталинской премии. Поэтому ему было не страшно. А Алексей Федорович находился в другом положении. Когда его арестовали по “церковному” процессу, ведь я читала потом его “Дело”, и там говорится, что Лосев был “идеолог церковников”. Поэтому власти на него наложили запрет заниматься философией. Да еще к тому же глаза потерял. Куда ему деваться, поэтому делалось все тихо, тайно. Даже от меня скрывали.
– А известно, кто из священнослужителей приезжал?
– У него были связи через вдову арестованного и погибшего священника Александра Воронкова. Тогда еще была жива Валентина Михайловна Лосева. Приезжали разные люди, знаю, что был покойный отец Василий, сам врач по специальности, настоятель храма Воскресения Словущего на Иерусалимском подворье Москвы. Он был довольно известен. Очень глубокий старец, скончался года два или три назад. Просто приходили, под видом каких-то давних друзей. А что, Вы думаете последнее десятилетие было простое? Алексей Федорович скончался в 88-м году, накануне всех изменений. И впервые о Лосеве как о церковном человеке сказала я, на девятый день после его смерти. Как раз начались празднества Тысячелетия Крещения Руси. Вскоре Лосева стали печатать. Задумали целую серию русских философов и начали как раз с Лосева, самого позднего, последнего русского философа…
– А из современных Алексею Федоровичу духовных лиц кто-нибудь близок?
Могу сказать, что в 20-е годы, когда можно еще было по монастырям ездить, общаться со священнослужителями, Алексей Федорович очень сблизился с архимандритом Давидом, который был настоятелем Андреевского скита на Афоне и основал Андреевское подворье в Петербурге. Это был его духовный отец. Затем отец Досифей, тоже был духовником Лосева. Из Зосимовой пустыни о.Мелхиседек. Затем владыка Феодор (Поздеевский), с которым Алексей Федорович на одних нарах спал и в пересылках был, и в лагерь отправлялся. Затем, конечно, нельзя обойти отца Павла Флоренского. Вы, наверное, знаете, что отец Павел венчал Алексея Федоровича и Валентину Михайловну в Сергиевом Посаде в 22 году. Сохранилось даже письмо 1923 года к о.Павлу, где Алексей Федорович приглашает его приехать на годовщину такого события важного, семейного. Лосев, отправляясь в Троице-Сергиев или Хотьково, всегда бывал в доме Флоренских. Среди других знакомых: владыка Арсений (Жадановский), владыка Серафим (Звездинский), владыка Варфоломей (Ремов), большой знаток семитической филологии, с которым как раз Алексей Федорович и Валентина Михайловна этой семитической филологией и занимались, изучали древнееврейский язык, псалмы Давида. Еще Новоселов Александр Иванович, замечательный духовный публицист и человек, который жил всеми проблемами Церкви. Потом известный математик-геометр Дмитрий Федорович Егоров, президент Московского математического общества: он был арестован после Алексея Федоровича по тому же делу.
– Жив ли кто-нибудь из этих людей?
– Никто. Самое интересное, что дети и внуки тех, кто пострадал тогда за веру, достойно продолжили или продолжают дело своих близких. Например, Алексей Федорович был близок с дедом отца Владимира Воробьева (они, собственно говоря, были одновременно арестованы), нынешнего ректора Свято-Тихоновского богословского института. Научная деятельность (отец Владимир – кандидат физико-математических наук) не помешала ему продолжить духовный путь своего деда. Или, например, с Алексеем Федоровичем был арестован Александр Борисович Салтыков. И вот его сын, отец Александр Салтыков, очень почитаемый батюшка, ученый, как вы знаете, искусствовед, прекрасный знаток древнерусской иконописи. Он вместе с отцом Владимиром служит в Никольском храме.
– Бывал ли Алексей Федорович в Университетской церкви?
– Постоянно посещал. Об этом он вспоминает в дневниках. Например, в книжке, которая называется “Мне было 19 лет”, он пишет о том, какое это было счастье – прийти в храм, где все свое: и студенты, и профессора – все были соединены вместе.
– Аза Алибековна, известно, что у Пушкина важные моменты жизни были связаны с праздником Преображения. У Лосева таким праздником, наверное, был день Кирилла и Мефодия?
– Этих славянских святых Алексей Федорович, конечно же, почитал, любил. Он и умер-то в день их праздника, 24 мая. Но все же главным для него была Пасха, потому что это Воскресение Господне…
С Азой Алибековной Тахо-Годи беседовал
Александр ЕГОРЦЕВ
“ТД”, №№ 22, 23, 25, 1998
смотреть на рефераты похожие на "Философ Алексей Федорович Лосев"
А. Ф. ЛОСЕВ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
А. Ф. Лосев (23.09.1893 - 24.05.1988) родился в Новочеркасске (столице
Области Всевеликого Войска Донского) в скромной семье Ф. П. Лосева, учителя математики, страстного любителя музыки, скрипача-виртуоза, и Н. А. Лосевой, дочери настоятеля храма Михаила Архангела, протоиерея о. Алексея Полякова.
Однако отец оставил семью, когда сыну было всего три месяца, и воспитанием мальчика занималась мать. От отца А. Ф. унаследовал страсть к музыке и, как он сам признавался, «разгул и размах идей», «вечное искательство и наслаждение свободой мысли». От матери - строгое православие и нравственные устои жизни. Мать и сын жили в собственном доме, который в 1911 г., когда
Алексей кончил с золотой медалью классическую гимназию, пришлось продать - нужны были деньги для обучения в Московском Императорском Университете
(доходов со сдаваемого матерью в аренду казачьего наследственного надела не хватало).
Алексей Лосев в 1915 г. окончил Университет по двум отделениям историко- филологического факультета - философии и классической филологии, получил он и профессиональное музыкальное образование (школа итальянского скрипача Ф.
Стаджи) и серьезную подготовку в области психологии.
Со студенческих лет он член Психологического Института, который основал и которым руководил профессор Г. И. Челпанов. Обоих, учителя и ученика, связывало глубокое взаимопонимание. Г. И. Челпанов рекомендовал студента
Лосева в члены Религиозно -философского общества памяти Вл. Соловьева, где молодой человек лично общался с Вяч. Ивановым, С. Н. Булгаковым, И. А.
Ильиным, С. Л. Франком, Е- Н. Трубецким, о. П. Флоренским. Оставленный при
Университете для подготовки к профессорскому званию, Алексей Лосев одновременно преподавал в московских гимназиях древние языки и русскую литературу, а в трудные революционные годы ездил читать лекции в только что открытый Нижегородский Университет, где и был избран по конкурсу профессором (1919), в 1923 г. Лосева утвердил в звании профессора уже в
Москве Государственный Ученый Совет.
На родину, где никого из близких за годы революции не осталось в живых,
Лосев не возвращался.
В 1922 г. он вступил в брак (венчал в Сергиевом Посаде о. П. Флоренский) с Валентиной Михайловной Соколовой, математиком и астрономом, которой мы обязаны напечатанием книг А. Ф. в 20-х годах.
Все эти годы А. Ф. Лосев был действительным членом Государственной
Академии Художественных наук, профессором Государственного Института музыкальной науки (ГИМН), где он работал в области эстетики, профессором
Московской консерватории.
Начал он печататься с 1916 г. («Эрос у Платона», «Два мироощущения», «О музыкальном ощущении любви и природы»).
В 1919 г. на немецком языке вышла в Швейцарии в сборнике «Russland» важная статья Лосева Russische Pholosophie. В 1918 г. молодой Лосев совместно с С.
Н. Булгаковым и Вяч. Ивановым готовил по договоренности с издателем М. В.
Сабашниковым серию книг. Называлась эта серия под ред. А. Ф. Лосева
«Духовная Русь». В ней, кроме вышеназванных, участвовали Е. Н. Трубецкой,
С. Н. Дурылин, Г. И. Чулков, С. А. Сидоров. Однако издание это не увидело света, что и неудивительно для революционных лет.
Однако в эти же годы началась подготовка т. н. «восьмикнижия», которое А.
Ф. Лосев опубликовал с 1927 по 1930 гг. Это были «Античный космос и современная наука» (1927), «Философия имени» (1927), «Диалектика художественной формы» (1927), «Музыка как предмет логики» (1927),
«Диалектика числа у Плотина» (1928), «Критика платонизма у Аристотеля»
(1929), «Очерки античного символизма и мифологии» (1930), «Диалектика мифа»
(1930).
Уже в конце 20-х годов автор этих книг подвергся травле и проработке в печати. На XVI партсъезде ВКП(б) его осудил (в первую очередь за
«Диалектику мифа») Л. М. Каганович, как классового врага. В ночь на
Страстную пятницу 18 апреля 1930 г. А. Ф. Лосева арестовали, приговорив к
10 годам лагерей (его супругу к 5 годам), обвиняя в антисоветской деятельности и в участии в церковно-монархической организации. Уже отбывшего 18 месяцев заключения во внутренней тюрьме Лубянки (4 месяца в одиночке) и находящегося в лагере на стройке Беломорско-Балтийского канала на Лосева в статье «О борьбе с природой» обрушился М. Горький.
С удивительной стойкостью переносили Лосевы свое лагерное бытие, о чем свидетельствует переписка А. Ф. с В. М., заключенной в лагере на Алтае.
Поддерживала силу духа супругов Лосевых их глубокая вера и тайно принятый ими (под именами Андроника и Афанасии) монашеский постриг (1929 г., 3 июня), совершенный известным афонским старцем, архимандритом о. Давидом.
Однако сфабрикованное дело потерпело в конечном счете крах. Лосевых освободили в 1933 г. в связи с завершением стройки канала. Правда, А. Ф. вышел из лагеря, почти потеряв зрение, но зато с разрешением (сказалась помощь Е. П. Пешковой, жены Горького, главы Политического Красного Креста) вернуться с восстановлением гражданских прав в Москву.
В ЦК ВКП(б) бдительно следили за вернувшимся философом. Ему наложили запрет на работу по его прямой специальности, разрешив заниматься античной эстетикой и мифологией. Все 30-е годы А. Ф. переводил античных авторов:
Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, Секста Эмпирика, мифо-графов и комментаторов философии, Николая Кузанского, а также знаменитый ареопагитский корпус. Штатного места в высших учебных заведениях для бывшего арестанта не было, и он вынужден был выезжать из Москвы раза два в год для чтения курсов античной литературы в провинцию.
В 1941 г. семья Лосевых пережила новую катастрофу - гибель дома от немецкой фугасной бомбы, полное разорение, смерть близких. Жить пришлось начинать сначала еще раз. Появилась надежда на университетскую деятельность. Пригласили на философский факультет МГУ им. Ломоносова. Но читавшего лекции и руководившего гегелевским семинаром проф. Лосева
(1942-1944 гг.) изгнали из Московского университета по доносу (в нем принял участие и бывший друг), как идеалиста.
В 1943 г. А. Ф. присудили степень доктора филологических наук.
Классическая филология оказалась спасительной. Власть перевела Лосева
(оставить без работы не решились) в Московский государственный пединститут им. Ленина на открывшееся там классическое отделение, где он мешал как конкурент зав. кафедрой. Правда, через несколько лет отделение закрыли, и
Лосев оказался сначала на кафедре русского языка, а затем на кафедре общего языкознания, где он преподавал древние языки аспирантам, проработав до самой своей кончины.
С 1930 по 1953 гг. А. Ф. Лосев не издал ни одного своего труда (перевод из Николая Кузанского не в счет) - издательства боялись печатать рукописи
Лосева по античной эстетике и мифологии, обставляя их отрицательными рецензиями, обвиняя в антимарксизме, что граничило с антисоветчиной, грозило новым арестом. Спасла смерть Сталина.
С 1953 г. А. Ф. Лосева начали интенсивно печатать. Теперь, в 1998 г., в списке трудов Лосева более 700 наименований, из них более 40 монографий. С
1963 по 1994 гг. выходило новое лосевское «восьмикнижие» - «История античной эстетики» в 8 томах и 10 книгах (т. VIII в двух книгах, готовый еще в 1985 г., вышел посмертно в 1992 и 1994 гг.). Этот труд явился подлинной историей античной философии, которая вся, по определению ее автора, выразительна, а значит, эстетична. Более того, этот труд дает нам картину античной культуры в единении ее духовных и материальных ценностей.
На склоне лет А. Ф. смог вернуться к любимой еще с 20-х годов проблематике. Впервые за советское время вышло собрание сочинений Платона под редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса со статьями А. Ф. и комментариями
А. А. Тахо-Годи. Наконец, А. Ф. Лосев официально вернулся в философию, сотрудничая в пятитомной философской энциклопедии (1960-1970), где ему принадлежат 100 статей, иные из которых представляют большие глубокие исследования. Выпустил он (тоже впервые в русской науке) «Античную музыкальную эстетику» (1960-1961), не говоря уже о серьезных и объективных статьях, посвященных Рихарду Вагнеру, о котором не принято было говорить положительно (1968, 1978).
В 1983 г. вышла книга «Знак. Символ. Миф». Но еще раньше, в 1976-м, появилась книга «Проблема символа и реалистического искусства» (2-е изд.,
1995). Именно Лосев впервые за советское время заговорил о символе, о предмете, долгие годы закрытом для исследователей и читателей, и заговорил положительно, вопреки ленинской критике. Впервые поднял А. Ф. и ряд наболевших вопросов, связанных с эпохой Возрождения. А. Ф. Лосев, несмотря на противодействие защитников марксистской доктрины, представил обратную сторону так называемых титанов Ренессанса с их вседозволенностью и абсолютизацией человеческой личности. «Эстетика Возрождения» (1978) оказалась, как всегда у Лосева, больше, чем эстетика. Это выразительный лик культуры целой эпохи.
Вернулся А. Ф. и к русской философии, о которой он писал в давние времена.
Он подготовил большую книгу об учителе своей юности, Вл. Соловьеве, напечатав ее сокращенную редакцию под названием «Вл. Соловьев» (1983). Это вы звало невероятные гонения и на книгу (первую при советской власти о русском философе), и на ее автора. Книгу пытались уничтожить, а потом сослали на окраины страны (за невозможностью сослать самого автора).
Рукописи Лосева в разных издательствах были задержаны на основе приказа
Председателя Комиздата Б. Н. Пастухова. Полностью книга «Вл. Соловьев и его время» появилась в печати после кончины А. Ф., уже в 1990 г.
Так хотя бы в конце жизни, но снова были подняты Лосевым и восстановлены в своих правах излюбленные им с 20-х годов идеи (причем уже не только на античном материале) и выражены в чрезвычайно острой, яркой и полемической форме.
А. Ф. Лосев скончался 24 мая 1988 г. в день памяти славянских просветителей св. Кирилла и Мефодия, покровителей Лосева с детских лет (в гимназии домовый храм был посвящен этим святым). Последнее, что написал А.
Ф. Лосев, - «Слово о Кирилле и Мефодии - Реальность общего», с которым А.
Ф. собирался выступить в год празднования Тысячелетия Крещения Руси. Это слово на 9-й день по кончине А. Ф. я прочитала на Международной конференции, посвященной великому празднеству, в присутствии многочисленных гостей и участников почтенного собрания, светских и духовных лиц, в том числе высоких иерархов.
В 1995 г. мне пришлось познакомиться со следственным делом А. Ф. Лосева, причем выяснилось, что в Центральном архиве ФСБ РФ сохранились изъятые при аресте философа рукописи (2350 страниц), которые были переданы мне 25 июля
1995 г. в «Доме Лосева» (на Арбате) в торжественной обстановке.
Интереснейшие архивные материалы, сохранившиеся дома после катастрофы 1941 г. и пополненные вернувшимися с Лубянки, регулярно публикуются в журналах, сборниках, таких как «Студенческий меридиан», «Человек», «Начала»,
«Символ», «Вестник РХД» (оба последние - Париж - Москва), «Новый журнал»
(Нью-Йорк).
Как всегда поздно, но восторжествовала справедливость: в 1990 г. - вышел том Лосева под скромным названием «Из ранних произведений», где были напечатаны «Философия имени», «Диалектика мифа», «Музыка как предмет логики». А. Ф. Лосев вернулся в ряды великих русских философов. Он оказался из них последним. В 1993-1997 гг. издательство «Мысль» (Москва) выпустило семь томов сочинений А. Ф. Лосева, где перепечатано «восьмикнижие» 20-х годов и впервые опубликованы обширные архивные материалы. В 1997 г. появился сборник работ Лосева «Имя» (СПб. изд. «Алетейя»), куда вошли новые архивные материалы, в том числе тезисы докладов А. Ф. Лосева об Имени
Божием и многое другое. Жизнь и творчество А. Ф. Лосева продолжаются в его книгах.
Всякий, кто знакомится с трудами А. Ф. Лосева, будет поражен разнообразием его научных интересов, как будто совсем несовместимых друг с другом. Однако при ближайшем рассмотрении не только книг русского мыслителя, но и его биографии можно убедиться в удивительной целостности и целеустремленности его долгого творческого и жизненного пути.
Эта целеустремленность и целостность проявились еще в гимназические и студенческие годы.
А. Ф. любил родную гимназию, называя ее «кормилицей» (она действительно изобильно питала своих учеников науками) и вспоминая ее постоянно.
В гимназии заложено было у юного Лосева стремление соединять все области знания в нечто единое. Он увлекался литературой, философией, математикой, историей, древними языками. Учителя были выдающимися знатоками своего дела
(«Не чета нынешним профессорам», - говаривал он). Достаточно сказать, что в старших классах гимназии юноша изучал сочинения Платона, полученные в подарок от учителя древних языков И. А. Микша, а также сочинения Вл.
Соловьева, которыми наградил его директор гимназии Ф. К. Фролов.
Кроме того, существовали журналы «Природа и люди», «Вокруг света»,
«Вестник знаний», «Вера и разум», которые читал и выписывал гимназист.
Слушал он и лекции приезжих ученых и критиков вроде Ф. Степуна и Ю.
Айхенвальда, неизменно посещал театр, где играли известнейшие в России гастролеры, и концерты «Русского музыкального общества». Всего не перечесть. В недавно обнаруженной мною в домашнем архиве переписке (в пяти объемистых записных книжках) гимназиста Алексея Лосева и гимназистки Ольги
Позднеевой (сестры его сотоварищей по гимназии братьев Позднеевых, будущих профессоров) есть примечательные свидетельства вполне осознанного юношей дальнейшего жизненного пути.
«Я не для балов и не для танцев, а для служения науке, для поклонения прекрасному» (подчеркнуто Лосевым). Он пишет сразу два сочинения, о чем сообщает Ольге: «Я сижу до 12-ти, а иногда и больше. У меня на столе сейчас лежит по крайней мере до 200 книг и брошюр, не считая нескольких дестей исписанной бумаги. Все сочинения, рефераты, заметки, выписки из книг». Одно сочинение - «Ж. Ж. Руссо и диссертация: «О влиянии наук на нравы». Другое -
«Психические различия человека и животных». «В работе вся цель жизни.
Работать над самим собой, учиться и учить. Вот мой идеал», и добавляет одно из любимых изречений: «Если ты молишься, если ты любишь, если ты страдаешь, то ты человек». И еще одно: «Мысль без жизни и жизнь без любви - что пейзаж без воздуха - там задохнешься». Он с гордостью пишет о своей матери, что это именно она сделала «из жалкого, хрупкого дитяти юношу, честно трудящегося и стремящегося оправдать свое название христианина» (7 ноября
1909 г.). Он переписывает свой реферат о Руссо и готов писать всю ночь:
«Буду сидеть до света, а своего добьюсь». «Одна наука. Только ты одна приносишь мне успокоение». И мест таких множество в этом диалоге близких душ.
Особенно импонирует Алексею Камилл Фламмарион, знаменитый французский астроном и вместе с тем беллетрист, романами которого - «Стелла» и «Урания»
- зачитывался гимназист.
Для Алексея, который в 1909 г. написал сочинение «Атеизм. Его происхождение и влияние на науку и жизнь», важно, что Фламмарион, «будучи самым серьезным ученым, в то же время верующий в Бога», с уважением относится к христианству. Уже в этих словах гимназиста заложен один из главных жизненных и мировоззренческих принципов Лосева о целостном восприятии мира через единство веры и знания-
Вне философии юноша не мыслит жизни. Он твердо уверен в том, что
«философия есть жизнь», а «жизнь есть философия». «Есть, - пишет он, - единое знание, единый нераздельный дух человеческий. Ему служите!». «Вы хотите быть философом? Для этого надо быть человеком» (там же, выделено
Лосевым). Перед нами семена будущего целостного взгляда на мир и его освоение. Здесь же вполне осознанная целеустремленность к познанию истины, вечное ее искание, ибо претензия на обладание истиной «есть смерть» . Тут же спор с Достоевским, ибо «не красота спасет мир, а добро».
Размышления о любви студента Лосева тоже утверждают «взаимную принадлежность» двух душ к «вселенскому всеединству» , а стремление к любви тоже понимается как «стремление к утраченному единству», являясь космическим процессом. «Зерно любви» «в своем динамическом аспекте есть порыв к единству, побеждающему смерть, неведение и несчастье», «узревший тайну любви в идее всеединства знает, что такое он, человек, и куда он идет» . «Человеческая душа тоскует по своей небесной родине, но она в путах зла. Отсюда любовь на земле есть подвиг» . «Абсолютное счастье есть вечная жизнь и радость о Духе Святе» . Вера в единого Творца приводит к мысли, что
«Ипостасный Бог, являющий своим ипостасным единством идею всеединой вселенной», есть «предвечный образ единения душ» ,
Наиболее четко и выразительно представлена идея всеединства в юношеской работе Лосева под названием «Высший синтез как счастье и ведение», которая была написана накануне отъезда в Москву перед поступлением в Московский университет в 1911 г.
Он задумал это сочинение в 15 главах как некую программу для будущей творческой жизни. Правда, автор установил только основные тезисы, написал частично главу «Религия и наука», собрал к ней подготовительные материалы и заметки. Особенно дорога оказалась для юного (как и для зрелого) Лосева идея единения науки и религии, веры и знания. Ведь знать можно только тогда, когда веруешь, что объект знания действительно существует, а верить можно, если знаешь, во что надо верить. Одно из любимых изречений А. Ф. - слова апостола Павла «верою познаем».
Основной тезис юного философа был высказан вполне четко. Высший синтез - это синтез религии, философии, науки, искусства и нравственности, т. е. всего, что образует духовную жизнь человека.
Этот высший синтез, очевидно, нашел опору в теории всеединства Вл.
Соловьева, которого Лосев считал своим первым учителем наряду с Платоном, учителем в жизненном, а не абстрактном понимании идей и виртуозной диалектике.
Философские размышления молодого Лосева (а ими заполнены его дневниковые записи) все тяготеют к самой ранней его теоретической работе, которая вполне созвучна и его будущей творческой и жизненной позиции.
Однако здесь нам необходимо сделать некоторые уточнения, которые смогут связать русского философа с классической традицией. Наш читатель тем самым до некоторой степени получит объяснение, почему А. Ф. Лосев опирался в своих трудах на опыт античной философии, без которой не могли обойтись ни восточные Отцы церкви православной Византии (а они были мастерами диалектики, не уступая в этом неоплатоникам), ни западная средневековая схоластическая наука, ни эпоха Возрождения в лице кардинала Николая
Кузанского, ни Шеллинг, ни Гегель. В связи с этим думаю, что не следует ограничиваться при изучении работ А. Ф. Лосева ссылкой только на теорию всеединства Вл. Соловьева.
Конечно, Вл. Соловьев был, по признанию самого А. Ф., его первым учителем, и теория всеединства объединяет Лосева и Вл. Соловьева. Однако всеединство немыслимо без целого или целостности, а эта последняя опять-таки свои истоки имеет в античной философии, которая Лосевым, готовившим свои книги
20-х годов, была глубоко изучена в подлинниках. Ему особенно импонировала в этом плане теория Аристотеля об общности (синтез единичного и общего), которая есть не что иное, как идея, эйдос или смысл любой вещи, организующей ее целостность.
И вот тут-то Лосев выявляет и развивает в связи с идеей целостности теорию организма и механизма, намеченную в философии Аристотеля. В формулировке Лосева эта теория, обдумывавшаяся Аристотелем трудно и разбросанно, звучит достаточно ясно. Целостность вещи как организма гибнет с удалением из нее хотя бы одной существенной ее части, в то время как целостность механизма сохраняется, несмотря на удаление отдельных частей и на их замену. Это замечательное учение о целостном организме проходит через все творчество А. Ф., и раннее, и самое позднее. По Аристотелю, таким организмом является всякая отдельная вещь, всякое отдельное живое существо, всякая эпоха и, наконец, космос тоже в целом есть организм. Организм, таким образом, по Аристотелю, есть «такая целостность вещи, когда имеется одна или несколько таких частей, в которых целостность присутствует субстанциально».
У Аристотеля это продуманная философом теория, та логическая структура, которая необходима, чтобы отличать организм от механизма, а вовсе не обычное для древних представление о всеобщем одушевлении мира.
Более того, свою логическую структуру организма Аристотель выразил по своей терминологии в учении о «четырех причинах», которые Лосев именует, опять-таки разъясняя, интерпретируя и развивая, «четырехпринципной структурой всякой вещи как организма».
Основой такой структуры является эйдос, или идея, смысл, сущность вещи; далее материя, которая есть не что иное, как возможность жизненного воплощения идеи; затем причина развития данного организма, заключающая в себе самопроизвольное движение, и, наконец, результат или цель самодвижущегося развития. Этот аристотелевский так называемый четырехступенчатый принцип целостной структуры любой вещи как организма в дальнейшем вошел и в неоплатоническую систему, где делался особенный упор на единое, объединяющее в одно целое каждую его часть. Недаром Лосев выделил у Прокла в его учении о едином, т. н, генологии, двенадцать типов единого, в конце концов все многообразие мира возводилось у неоплатоников к высшему безымянному абсолюту, к Единому, создающему целостность космического организма.
Лосев был глубоким знатоком платоно-аристотелевского синтеза в неоплатонизме, последней философской школе античности (III-V вв.).
Думается, что не без воздействия тончайшей диалектики неоплатоников, которых Лосев изучал, комментировал, интерпретировал, переводил в течение всей своей долгой жизни, развивалось и укреплялось собственное учение
Лосева о целостности любой вещи и даже любой эпохи, которую он готов был рассмотреть «как живой, единый организм, как живое тело истории».
Эта целостность не исключала изучение отдельных фактов и явлений, она предполагала их, выявляя сначала нечто индивидуальное, частное, что в дальнейшем установит характерную для них органическую общность, как раз и создающую «живое тело истории». Еще в книге 1930 г. А. Ф. Лосев стремился установить именно тип античной культуры, отмечая, что «типология же и конкретная, выразительная физиогномическая морфология - очередная задача и всей современной философии и всей науки». Он готов был, «если позволят обстоятельства», опубликовать «ряд типологических работ». Такие обстоятельства надо было ждать десятки лет. Общее, целое, целостное культуры тысячелетней античности и вместе с тем индивидуальное, особенное, специфическое сумел продемонстрировать философ в своей монументальной
«Истории античной эстетики».
Небезынтересно отметить, что целостность ничуть не противоречит, по Лосеву, индивидуальности, которую, как он не раз повторял, «ничем нельзя объяснить, только из самой себя». «Даже Демокрит, - писал он, - впервые пожелавший изобразить индивидуальности, представил их как неделимые атомы». Но ведь греческое слово атоuоv и латинское individuum одинаково, буквально означают «неделимое», а значит, и целое, целостное, не разделенное механически на части. Значит, Демокрит тоже понимал атомы в качестве неких мельчайших организмов.
Однако умно сконструированная целостность каждой вещи и всего мира вовсе не исключала воздействия стихий и неожиданных драматических коллизий.
Недаром неоплатоники (особенно Плотин) представляли мир театральными подмостками, на которых разыгрывалась космическая драма, возглавляемая верховным хорегом-Демиургом.
Драма жизни, как мы знаем, не миновала и Лосева, почитателя «светоносного
Ума», «апологета разума», который, полагая, что мир «чреват смыслом», и в самой «бешеной бессмыслице» стремился «увидеть смысл». Философ Лосев отнюдь не случайно назвал жизнь сумасбродством, хотя видел даже в нем некий метод и определил «жизнь философа - между сумасбродством и методом».
Нет, не зря А. Ф. признавался в конце своего пути:
«Жизнь навсегда осталась для меня драматургически-трагической проблемой».
Теперь, надеюсь, вряд ли можно будет судить об энциклопедической эрудиции
А. Ф. Лосева и редкостной для науки XX в. (основанной на сознательном разъятии целого) универсальности русского мыслителя (философия и филология, эстетика и мифология, богословие и теория символических форм, история художественных стилей, философия музыки, математика, астрономия и др.), не учитывая понятий «всеединства», «высшего синтеза» и «целостности» предмета, понятого как организм. Мир для А. Ф. Лосева немыслим вне единораздельной целостности бытия. Сущность этой целостности можно изучить во всех внешних проявлениях ее частей, несущих на себе печать целого, так сказать энергию сущности, в формах словесных, математических, астрономических, символических, мифологических, музыкальных, временных и мн. др. Широта исследовательского диапазона Лосева и есть, таким образом, не что иное, как универсальное познание мира, созданного Единым Творцом, во всех выразительных смыслах и формах.
«Всеединство», «целостность», «высший синтез» привели Лосева к отрицанию противопоставления идеализма и материализма и вообще к употреблению этих
«заношенных терминов» с «неясным содержанием». Он решительно демонстрирует единство идеи и материи, духа и материи, бытия и сознания во введении к консерваторскому курсу по «Истории эстетических учений».
Он признает также диалектическую связь и единство между идеей и материей, но никак не главенство одной из них, как это характерно для марксизма.
Диалектик не может ставить преграду между сущностью и явлением, как нет преграды между бытием и сознанием, идеей и материей. Идея одухотворяет материю, а материя овеществляет дух, придает ему плоть.
А. Ф- Лосев писал: «Тело осуществляет, реализует, впервые делает существующим внутренний дух, впервые выражает его бытийственно. Сознание только тогда есть сознание, когда оно действительно есть, т. е. когда оно определяется бытием. Это диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть последняя известная мне реальность».
Здесь у Лосева нет ни абстрактной идеи, ни абстрактной материи. Наоборот, саморазвивающаяся идея обладает не только духом, но и материей, или телом, т. е., собственно говоря, включает в себя производственные отношения. Вот почему в экономике идея должна проявлять себя выразительно-сущей. Поэтому
«дух, который не создает своей специфической экономики, есть или не родившийся, или умирающий дух».
Как видим, А. Ф. Лосев создает свою теорию единства, или синтеза идеи и материи, подлинно диалектическим методом, присущим всем его построениям. «В философии я - логик и диалектик», - писал Лосев (письмо В. М- Лосевой из лагеря в лагерь от 11.03.32 г.), ибо в диалектике бьется «ритм самой действительности», диалектика - «глаза, которыми философия может видеть жизнь».
Чистая диалектика, писал А. Ф., относится к сфере «реалистической философии», понятой глубоко исторически, почему «все, что было, есть и будет, все, что вообще может быть, конкретным становится только в истории».
Свои тезисы А. Ф. подтвердил и в книгах 20-х годов, и особенно в поздней
«Истории античной эстетики». В ней историко-диалектический метод А. Ф.
Лосев применил к явлениям тысячелетней культуры, опираясь на точную науку, изучая детально, всесторонне, можно сказать, филигранно свой предмет и вполне естественно для него прибегая к художественной выразительности.
В книгах 20-х - начала 30-х годов, которые представлены в нашем томе, А.
Ф. Лосев строит свою оригинальную философскую систему, выдвигая такие кардинальные категории (логические и вместе с тем жизненные), как, например, одно, единое, сущность, эйдос, миф, символ, личность, имя, самое само, число и мн. др. и находит их истоки в античности. Поэтому всякий, кто хотел бы внимательно ознакомиться с целостной картиной лосевского видения мира с позиций философа XX в., должен обратиться не только к т. н.
«восьмикнижию» первой четверти века, но и к его позднему «восьмикнижию»
«Истории античной эстетики», тем самым соединив начала и концы в творчестве последнего представителя русской фило-софско-религиозной мысли. Сам А. Ф.
Лосев однажды признался в письме к В. М. Лосевой (из лагеря в лагерь
22.01.32 г.): «Имя, число, миф - стихия нашей с тобой жизни».
Лосев как религиозный философ раскрывается наиболее полно в своей философии имени («Философия имени» написана в 1923 г.), в которой он опирается на учение о сущности Божества и энергиях, носителях Его сущности
(доктрина христианского энергетизма, сформулированная в XIV в. св.
Григорием Паламой). Сущность Божества, как и положено в духе апофатизма, непознаваема, но сообщима через свои энергии. Эта доктрина нашла свое выражение в православном религиозно-философском движении имяславия, идеи которого глубоко понимали и развивали в 10-х - начале 20-х годов о. П.
Флоренский, о. С. Булгаков, В. Ф. Эрн, профессор-богослов Д. М. Муретов, религиозный деятель и публицист М. А. Новоселов, известные математики Д. Ф.
Егоров, Н. М. Соловьев и мн. др. А. Ф. Лосеву принадлежит серия докладов о почитании Имени Божьего в плане историческом (богословские споры IV в, и современное состояние вопроса) и философско-аналитическом. Он пишет также статью «Ономатодоксия» (греческое название имяславия), предназначавшуюся для печати в Германии.
Любое имя, а не только Имя Божие тоже понимается Лосевым не формально, как набор звуков, но онтологически, т.е. бытийственно. Однако открыто признаться в своих ареопа-гитских, паламитских и имяславских истоках ученый не мог, ссылаясь только на некие старые системы, давно забытые. Можно с полной уверенностью сказать, что идеи «философии имени» и сейчас современны, имея много общего с его поздними лингвистическими работами
50-80-х годов. В «Философии имени» А. Ф. Лосев философско-диалектически обосновал слово и имя как орудие живого социального общения, далекое от чисто психологических и физиологических процессов. В «Истории русской философии» Н. О. Лосский особенно оценил идеи Лосева в «Философии имени».
Лосский писал:
«Если бы нашлись лингвисты, способные понять его философию языка... они могли бы натолкнуться на совершенно новые проблемы и дать новые плодотворные объяснения многих явлений жизни языка». Н. О. Лосский подчеркнул наличие «целой философской системы» в «Философии имени» и открытие Лосевым «существенной черты мирового бытия», которое не замечают
«материалисты, позитивисты и другие представители упрощенных миропонимании».
Слово у А. Ф. Лосева всегда выражает сущность вещи, неотделимую от этой последней. Назвать вещь, дать ей имя, выделить ее из потока смутных явлений, преодолеть хаотическую текучесть жизни - значит сделать мир осмысленным. Поэтому весь мир, вселенная есть не что иное, как имена и слова разных степеней напряженности. Поэтому «имя есть жизнь». Без слова и имени человек «антисоциален, необщителен, не соборен, не индивидуален»,
«Именем и словами создан и держится мир. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир».
В. В. Зеньковский в «Истории русской философии» (Париж, 1950 г.), опираясь на «Философию имени», поражался «мощи дарования» Лосева, «тонкости анализа», его «силе интуитивного созерцания». Он подчеркивал в философии
Лосева «живую интуицию всеединства», символизм, близость к «христианской рецепции платонизма», «учение о Боге», которое нигде не подменяется учением о идеальном космосе, которое «решительно отделено от отождествления» этого космоса с Абсолютом (вопреки концепции софиологов с их космосом как живым цельм).
Лосев - творец философии мифа, тесным образом связанной с его учением об имени. Ведь «миф» по-гречески есть «слово максимально обобщающее». Автор понимает миф не как выдумку и фантазию, не как перенос метафорической поэзии, аллегорию или условность сказочного вымысла, а как «жизненно ощущаемую и творимую вещественную реальность и телесность». Миф - это
«энергийное самоутверждение личности», «образ личности», «лик личности», это есть «в словах данная личностная история». В мире, где царствует миф, живая личность и живое слово как выраженное сознание личности, все полно чудес, вопринимаемых как реальный факт, тогда миф есть не что иное, как
«развернутое магическое имя», обладающее также магической силой.
Миф как жизненная реальность специфичен не только для глубокой древности.
В современном мире очень часто происходит мифологизация, по сути дела, обожествление идей, выдвигаемых в политических целях, что особенно было характерно для страны, строящей светлое будущее с бессловесным обществом.
Создается, например, обожествление идеи материи (вне материализма нет философии), идеи построения социализма в одной стране, находящейся во вражеском окружении, идеи обострения классовой борьбы и мн. др. Идея, воплощенная в слове, обретает жизнь, действует как живое существо, т. е. становится мифом и начинает двигать массами и, собственно говоря, заставляет целое общество (не подозревающее об этом) жить по законам мифотворчества. Мифологизация бытия ведет к извращению нормального восприятия личного и общественного сознания, экономики, науки, философии, искусства, всех сфер жизни.
А. Ф. Лосев сознательно вставил в текст книги выброшенные цензурой опасные идеологические места. И не раскаивался. Он писал из лагеря жене: «В те годы я стихийно рос как философ, и трудно было (да и нужно ли?) держать себя в обручах советской цензуры». «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться». «Я знал, что это опасно, но желание выразить себя, свою расцветавшую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности» Опасность, как мы знаем, разразилась. «Диалектика мифа» была разрешена цензурой, возможно, потому, что политредактором
Главлита был поэт-баснописец Басов-Верхоянцев, который дал заключение на эту опасную книгу. Взаключенииотмечалась чуждость автора марксизму
(идеалист), приводились примеры из его «философского трактата», а затем следовала парадоксальная резолюция: «Разве только в интересах собирания и сбережения оттенков философской мысли, может быть, и можно было напечатать эту работу, столь не материалистически и не диалектически построенную». Как видно, поэт взял верх над цензором. В докладе Л. М. Кагановича, который приводил примеры из этого «контрреволюционного» и «мракобесовского» сочинения (дыромоляи, диамат как «вопиющая нелепость», колокольный звон, монашество, «долбежка» о «возможности социализма в одной стране»), прозвучали также эти самые «оттенки», что вызвали возмущенные возгласы с места: «Кто выпускает? Где выпущено? Чье издание?» Возмущенный драматург
Вл. Киршон воскликнул: «За такие оттенки надо ставить к стенке» (и накликал собственный расстрел).
Но дело было сделано. Запрещенная книга все-таки вышла", и ее не только продавали (книгопродавцы действовали в своих интересах очень оперативно).
Она попала в Ленинскую библиотеку, где ее, например, читал в научном зале и от руки переписывал философ Н. Н. Русов в военный 1942 год, американский же философ-славист Дж. Клайн купил эту книгу в Мюнхене в 1969 г. Теперь злосчастная рукопись «Диалектики мифа» со штампом Главлита и разрешением печатать вернулась с Лубянки в «Дом Лосева» после передачи мне архива философа в 1995-м.
Наука о числах, математика, «любимейшая из наук» (письмо кжене от 11.03.32 г.), связана для А. Ф. Лосева с астрономией и музыкой. Он разрабатывал ряд математических проблем, особенно анализ бесконечно малых, теорию множества, теорию функций комплексного переменного, занимался пространствами разного типа, общаясь с великими математиками Ф. Д. Егоровым и Н. Н. Лузиным, близкими ему мировоззренчески, религиозно-философски. Сохранился большой труд Лосева «Диалектические основы математики» с предисловием В. М. Лосевой
(в 1936 году были наивные надежды на публикацию). Для него и его супруги существовала общая наука, которая есть и астрономия, и философия, и математика. Вместе с тем «математика и музыкальная стихия» для него также едины, ибо музыка основана на соотношении числа и времени, не существует без них, есть выражение чистого времени. В музыкальной форме существует три важнейших слоя - число, время, выражение времени, а сама музыка - «чисто алогически выраженная предметность жизни числа». «Музыка и математика - одно и то же» в смысле идеальной сферы. Отсюда следует вывод о тождестве математического анализа и музыки в смысле их предметности. И в музыке происходит прирост бесконечно малых «изменений», «непрерывная смысловая текучесть», «беспокойство как длительное равновесие - становление».
Рассматривает Лосев соотношение музыки и учения о множествах. И там и здесь многое мыслит себя как одно. И там и здесь учение о числе, где единичности, составляющие его, мыслятся не в своей отдельности, но как нечто целое, так как множество есть эйдос, понимаемый как «подвижной покой». Однако в музыке и математике есть и решительное различие. Музыка живет выразительными формами, она есть «выразительное символическое конструирование числа в сознании». «Математика логически говорит о числе, музыка говорит о нем выразительно».
И наконец, замечательное сочинение А. Ф. Лосева под названием «Самое само»
(с интересными и подробными - их любил Лосев - историческими экскурсами).
«Самое само» никогда не печаталось при жизни философа, сохранилась рукопись, чудом уцелевшая в огне катастрофы 1941 г. Здесь учение А. Ф.
Лосева о вещи, бытии, сущности, смысле, который коренится в глубинах эйдоса. Здесь заключены зерна лосевского представления о всеединстве и целостности, в котором каждая отдельная часть несет в себе сущность целого, создавая живой организм, а отнюдь не механическое соединение частей. Этот организм и есть та общность, сердцевиной которой является «самость», «самое само». «Кто знает сущность, самое само вещей, тот знает все», - пишет
Лосев.
В свою очередь, всякая вещь чрезвычайно сложна, она «есть безусловный символ... символ бесконечности, допускающий... бесконечное количество интерпретаций». Вещь не есть ни один из ее признаков, но все ее признаки, взятые вместе, что совсем не мешает абсолютной индивидуальности вещи - а это и есть самое само. «Самое само - это самая подлинная, самая непреодолимая, самая жуткая и могущественная реальность, какая только может существовать».
Могущество абсолютной индивидуальности самого самого заключено в некоей тайне. Однако эта тайна совсем иного рода, чем кантовская вещь-в-себе.
Кантовская вещь-в-себе не существует в сознании человека, «тайна же - существует». Она никогда не может быть раскрыта, но «она может являться»
(здесь у А. Ф. замечательное рассуждение о тайне), т. е. смысл, сущность, самое само объективно существующей вещи может быть явлено человеку, вызывая бесконечное количество интерпретаций. Недоступное и непознаваемое самое само скрыто в «бездне становления», которая и «порождает его бесчисленные интерпретации», т. е. внутренняя динамика эйдоса неизбежно создает любые интерпретивные возможности (статика этого не знает). Характерна мысль
Лосева о том, что учение об абсолютной самости чуждо «срединным эпохам философии», когда особенно сильна аналитическая мысль и идет разработка деталей в ущерб синтетическому охвату. Видимо, А. Ф., говоря о «срединной эпохе», подразумевал методы позитивистской философии, столь распространенные в XIX в.
И в этой работе А. Ф. Лосев ведет сложный, но абсолютно системный и логически четкий анализ самого самого, выразительно, задорно, отнюдь не догматически, а в свободном разговоре с читателем (любимая манера опытного лектора, да еще и воспитанного на диалогах Платона). Об этой же манере изложения еще раньше свидетельствовала ироничная и острая «Диалектика мифа».
То и дело в тексте «Самого самого» мы встречаем обращения к читателю и к подразумеваемым оппонентам. Приведем некоторые из них: «могут возразить»,
«уже читатель догадался», «вот вы видели в первый раз», «и если вы, позитивисты, думаете», «если вы, мистики, хотите говорить», «какое возмущение и негодование вызовет такое рассуждение у всякого позитивиста» и мн. др. А то вдруг среди примеров на бесконечность фигурирует (о ужас!)
«моя старая истоптанная галоша» советской фабрики «Треугольник».
Следует заметить, что автор использует здесь не формальный литературный прием, а способ доходчивого изложения, совместного размышления с тем, кто будет держать в руках книгу. Такого рода рассуждения завершаются необходимыми для аргументации сведениями исторического характера или важными методологическими выводами.
Рассуждая и вступая в спор о типах мировоззрения, Лосев делает вывод, что философия не должна сводиться на мировоззрение, но и не должна целиком от него отмежевываться. Мировоззрение только и может быть обосновано при помощи философии, философия должна быть обоснованием мировоззрения, а совсем не наоборот. И читатель понимает подтекст: нельзя подгонять философию под мировоззрение, как это делается марксистами.
Более того, Лосев, исследуя очередную проблему, пробует строить сначала философскую основу, не опираясь ни на какое мировоззрение. Он готов использовать наиболее объективные и научные философские теории, общие почти для всех мировоззренческих позиций, отмечая в каждойиз них особый принцип, делавший их оригинальным историко-философским типом. А затем уже следует заключение, подтверждающее мысль автора подойти естественным путем к выработке мировоззренческой теории своего собственного типа. «И только после всего этого мы введем тот принцип, который превратит все эти схемы, формально общие для всех или для большинства мировоззрений, в новое мировоззрение».
Если наш читатель внимательно ознакомится с трудами русского философа, помещенными в этом томе, он увидит, что А. Ф. Лосев действительно оказался создателем своего собственного мировоззрения, систематически и логически продуманного и выверенного на фактах истории европейской философии.
Русские философы за рубежом по выходе книг их младшего сотоварища в
Советском Союзе сразу заметили эту особенность А. Ф. Лосева.
Известный историк русской философии Дм.Чижевский оценил работы А. Ф. как создание «целостной философской системы», которая стоит в «русле живого развития философской мысли современности» и свидетельствует о «философском кипении и тех философских творческих процессах, которые где-то под поверхностью жизни совершаются в России»2. С. Л. Франк, с которым близок был молодой Лосев, признал, что Лосев «несомненно сразу выдвинулся в ряд первых русских философов» и сохранил «пафос чистой мысли, направленной на абсолютное, - пафос, который сам есть, в свою очередь, свидетельство духовной жизни, духовного горения» Английский философский журнал
«Pholosophical studies (Цеа» достаточно внимательно следил (в статьях своего обозревателя Натали Даддингтон) за книгами Лосева. В журнале регулярно отмечался выход каждой книги, начиная с «радостной вести» 1927 г. о появлении «Философии имени» и кончая «печальной вестью» 1930 г. в связи с судьбой «Диалектики мифа» и самого философа, арестованного и сосланного
(хуже не могло быть) «на север Сибири». Сам А. Ф. мог с полным правом писать в «Истории эстетических учений», что он не чувствует себя «ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, ни гуссерли- анцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалектиком, ни метафизиком». «Если уж обязательно нужен какой-то ярлык и вывеска, то я, - заключает он, - к сожалению, могу сказать только одно: я - Лосев». Этими словами философ подтвердил целостность своей мысли и жизни, свою абсолютную индивидуальность, свое самое само.
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Алексей Федорович Лосев
Лосев Алексей Федорович (1893-1988), российский философ и филолог, профессор (1923). В 1930-33 был репрессирован. В работах 20-х гг. дал своеобразный синтез идей русской религиозной философии нач. 20 в., прежде всего христианского неоплатонизма, а также диалектики Шеллинга и Гегеля, феноменологии Гуссерля. В центре внимания Лосева - проблемы символа и мифа ("Философия имени", 1927; "Диалектика мифа ", 1930), диалектики художественного творчества и особенно античной мифологии восприятия мира в его структурной целостности. С сер. 1950-х гг. опубликовал ок. 30 монографий, в т. ч. монументальный труд по истории античной мысли "История античной эстетики" в 8 тт. Государственная премия СССР (1986).
ЛОСЕВ Алексей Федорович (10/22.09.1893-24.05.1988), философ и филолог. Профессор Нижегородского университета (с 1919). В 1922-29 преподавал эстетику в Московской консерватории. В работах 1920-х дал своеобразный синтез идей русской религиозной философии н. XX в., прежде всего христианского неоплатонизма, а также диалектики Ф. В. Шеллинга и Г. В. Гегеля, феноменологии Э. Гуссерля. В центре внимания Лосева - проблемы символа и мифа (“Философия имени”, 1927; “Диалектика мифа”, 1930), диалектики художественного творчества и особенно античного мифологического мировосприятия. В 1930-33 в концлагере (Беломорско-Балтийский канал). В 1933-53 преподавал в вузах страны.
Основной труд: “История античной эстетики” (тт. 1-8).
Как христианский мыслитель Лосев сформулировал главное явление последнего тысячелетия - с эпохи Возрождения осуществляется развертывание сатанизма в форме капитализма и социализма.

ЛОСЕВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1893–1988), русский философ, ученый. Родился 10 сентября 1893 в Новочеркасске. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, в 1919 был избран профессором Нижегородского университета. В начале 1920-х годов Лосев становится действительным членом Академии художественных наук, преподает в Московской консерватории, участвует в работе Психологического общества при Московском университете, в Религиозно-философском обществе памяти Вл.Соловьева. Уже в первой публикации Лосева Эрос у Платона (1916) была обозначена глубокая и никогда не прерывавшаяся духовная связь мыслителя с традицией платонизма. Определенное влияние на молодого Лосева оказала метафизика всеединства Вл.Соловьева, религиозно-философские идеи П.А.Флоренского. О том, что именно он ценил и что не мог принять в творчестве Вл.Соловьева, Лосев много лет спустя рассказал в книге Владимир Соловьев и его время (1990). В конце 1920-х годов публикуется цикл его философских книг: Античный космос и современная наука, Философия имени, Диалектика художественной формы, Музыка как предмет логики, Диалектика числа у Плотина, Критика платонизма у Аристотеля, Очерки античного символизма и мифологии, Диалектика мифа. Сочинения Лосева подверглись грубым идеологическим нападкам (в частности, в докладе Л.М.Кагановича на ХVI съезде ВКП(б)). В 1930 Лосев был арестован, а затем отправлен в лагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала. Из лагеря Лосев возвращается в 1933 тяжело больным человеком. Новые труды ученого увидели свет лишь в 1950-е годы. В творческом наследии позднего Лосева особое место занимает восьмитомная История античной эстетики – глубокое историко-философское и культурологическое исследование духовной традиции античности. В самые последние годы были опубликованы неизвестные религиозно-философские сочинения мыслителя.
Характерная для Лосева погруженность в мир античной философии не сделала его равнодушным к современному философскому опыту. В ранний период творчества он самым серьезным образом воспринял принципы феноменологии. Лосева привлекало в философии Гуссерля то, что в определенной мере сближало ее с метафизикой платоновского типа: учение об эйдосе, метод феноменологической редукции, предполагающий «очищение» сознания, и переход к «чистому описанию», к «усмотрению сущностей». В то же время методологизм и идеал «строгой научности», столь существенные для феноменологии, никогда не имели для Лосева самодовлеющего значения. Мыслитель стремился «описывать» и «усматривать» не только феномены сознания, хотя бы и «чистого», но и подлинно бытийственные, символически-смысловые сущности, эйдосы. Лосевский эйдос – не эмпирическое явление, но и не акт сознания. Это «живое бытие предмета, пронизанное смысловыми энергиями, идущими из его глубины и складывающимися в цельную живую картину явленного лика сущности предмета».
Не приняв «статичности» феноменологического созерцания, Лосев обратился к диалектике, определяя ее как «подлинную стихию разума», «чудную и завораживающую картину самоутвержденного смысла и разумения». Лосевская диалектика призвана раскрыть смысл мира, который, согласно философу, есть «разная степень бытия и разная степень смысла, имени». В имени «светится» бытие, слово-имя – не отвлеченное понятие только, но живой процесс созидания и устроения космоса («именем и словами создан и держится мир»). В онтологии Лосева (мысль философа была онтологична уже изначально и в этом отношении можно согласиться с В.В.Зеньковским, что «до всякого строгого метода он уже метафизик») бытие мира и человека раскрывается также в «диалектике мифа», который, в бесконечно многообразных формах, выражает столь же бесконечную полноту реальности, ее неиссякаемую жизненную силу. Метафизические идеи Лосева в существенной мере определили философское своеобразие его фундаментальных трудов, посвященных античной культуре.
Другие биографические материалы:
Миненков Г.Я. Русский философ 20 века (Новейший философский словарь. Сост. Грицанов А.А. Минск, 1998 ).
Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Религиозный философ и эстетик (Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М. 2010 ).
Троицкий В.П. (Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010 ).
Троицкий В. П. Переводчик и комментатор античной литературы (Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014 ).
Троицкий В. П. Лосева дом (Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014 ).
Зеньковский В. Философ и филолог (Большая энциклопедия русского народа ).
Лосский Н. Горячий приверженец диалектического метода (Большая энциклопедия русского народа ).
С эпохи Возрождения осуществляется развертывание сатанизма в форме капитализма и социализма (Большая энциклопедия русского народа ).
(Сочинения А.Ф. Лосева, статьи о его творчестве, справочные материалы).